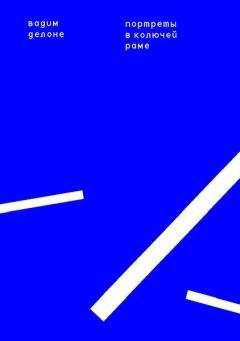Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади - Горбаневская Наталья Евгеньевна
Говорят, что КГБистским является только одно отделение – то, которое ведет экспертизу по политическим делам. Мне лично думается, что влияние КГБ, притом решающее влияние, распространяется на всю работу института. Но если дело обстоит даже так, как говорят, то возникает вопрос – может ли психиатрическая экспертиза по политическим делам быть объективной, если и следователи и эксперты подчиняются одному и тому же лицу, да еще связаны и военной дисциплиной?
Чтобы долго не гадать над этим вопросом, расскажу о том, что видел сам. Прибыл я во второе отделение (политическое) Института им. Сербского 12 марта 1964 года. До этого я даже не слышал о таком приеме расправы, как признание здорового человека психически невменяемым, если не считать то, что мне было известно о Петре Чаадаеве. О том, что в нашей стране существует система «чаадаевизации», мне и в голову не приходило. Я понял это, лишь когда мне самому было объявлено постановление о направлении на психиатрическое обследование. Состоялся следующий разговор со следователем.
Я, прочтя постановление, посмотрел на следователя и спросил: «Что, нашли выход из тупика?» (до этого я неоднократно говорил следователю, что если следствие и дальше будет продолжаться с соблюдением всех процессуальных норм, то следствие очень скоро зайдет в тупик). На этот вопрос следователь, находившийся в большом смущении с самого начала, стал сбивчиво и путано говорить:
– Петр Григорьевич, что вы подумали! Да нет, это простая формальность. Вы человек абсолютно нормальный. Я в этом не сомневаюсь, но у вас в медицинской книжке имеется запись о контузии, и в этих случаях психиатрическая экспертиза обязательна. Без этого суд не примет дело.
На мое замечание, что для передачи куда бы то ни было дела надо сначала иметь само дело, он продолжал заверять, что после окончания экспертизы следствие будет продолжаться и дело оформят. Но для меня становилось все яснее, что никакого следствия не будет, что мне обеспечена психиатричка на всю жизнь (так я в то время думал). Логически придя к этому выводу, я впоследствии рассматривал все явления под углом зрения этого вывода.
Когда я прибыл в отделение, там находилось 9 человек. В те чение последующих пяти-шести дней прибыло еще двое. Руководствуясь своим пониманием цели назначения экспертизы, я предсказал всем одиннадцати, кого какое ждет заключение. Исходил я при этом только из характера дела каждого – из доказанности или недоказанности преступления, а не из психического состояния каждого. Да собственно даже и без медицинского образования было ясно, что психически неполноценным является среди нас один только Толя Едаменко, но именно ему я предсказал обычный лагерь. «Дурдом», по-моему, ожидал только трех: меня, Боровика Павла (бухгалтера из Калининграда) и Дениса Григорьева (электромонтера из Волгограда). У всех этих людей следственное дело было пустое, и не было никакой возможности наполнить его содержанием.
Все остальные, по-моему, должны были быть признаны нормальными, хотя трое очень искусно «ломали ваньку», изображая из себя психически невменяемых, а один и в действительности был таковым. Один был у меня под сомнением – Юрий Гримм, крановщик из Москвы, который распространял листовку с карикатурой на Хрущева. Ему я сказал: «Не раскаешься, пойдешь в дурдом, раскаешься – в лагерь». Это заключение я сделал на том основании, что к нему несколько раз в неделю приезжал следователь и, обещая ему всякие блага, убеждал в необходимости «раскаяться». В конце концов Юра «раскаялся» и получил три года лагеря строгого режима. Полностью оправдались и все другие мои предсказания. Особо следует обратить внимание на пример с Гриммом. Когда я требовал прокурора и следователя, мне ответили, что в период экспертизы они не могут иметь доступа к подэкспертному. В отношении Гримма это не соблюдалось, что наилучшим образом свидетельствует о том, что так называемый институт – всего лишь подсобный орган следствия. И врач-эксперт, и следователь говорили с Юрой только об одном – о раскаянии. При этом врач вел себя хамовитее следователя и картинно живописал, как его упрячут на всю жизнь среди «психов», если он не раскается.
Уже в Ленинграде я тоже встретился с теми, кто попал в психиатричку, не будучи психически больным. Особенно тягостное впечатление произвел на меня инженер Петр Алексеевич Лысак. За выступление на собрании студентов против исключения нескольких из них по причинам политического недоверия он попал в спецпсихбольницу и к моменту моего прибытия находился там уже семь лет. Злоба за эту страшную расправу, за всю свою искалеченную жизнь затопила его мозг, и он ежедневно пишет самые злобные послания, которые, естественно, никуда не идут, а ложатся в его медицинское досье и служат основанием для дальнейшего его «лечения» (из СПБ не принято выписывать тех, кто не признал себя больным). Я попытался ему втолковать эту истину. Но он, имеющий абсолютно нормальные суждения по всем вопросам, в этом пункте, что называется, «непробиваем». Хуже того, он соглашается с убедительностью моих доводов, но когда я задаю наконец решающий вопрос: «Ну так как, с завтрашнего дня писать прекращаем?» – он вдруг снова загорается: «Нет, я им, сволочам, все равно докажу!» Однажды во время такого разговора, когда Петр особенно увлекся мыслью о том, как он докажет, я с раздражением сказал: «Вы настолько нереально рассуждаете, что я начинаю сомневаться в вашей нормальности», – он вдруг остановился, посмотрел на меня взглядом, который нельзя забыть до смерти, и тихо, очень тихо, с какой-то горькой укоризной спросил: «А неужели вы думаете, что здесь можно пробыть семь лет и остаться нормальным?»
И в этом его вопросе – вся суть нашей античеловеческой системы принудительного лечения. Очевидно, что если бы случаи содержания нормальных людей среди психически невменяемых были даже единичными, то и в этом случае надо было бы поднять самый решительный протест. Весь ужас положения здорового, попавшего в эти условия, состоит в том, что он сам начинает понимать, что со временем может превратиться в одного из тех, кого он видит вокруг себя. Особенно это страшно для людей с легко ранимой психикой, страдающих бессонницей, не умеющих самоизолировать себя от посторонних звуков, а они там распространяются с невероятной силой.
Ленинградская СПБ находится в здании бывшей женской тюрьмы, рядом со знаменитыми «Крестами». Здесь, как и в обычных тюрьмах, нормальные перекрытия имеются только над камерами. Середина же здания полая. Так что с коридора первого этажа можно видеть стеклянный фонарь крыши над пятым этажом. В этом колодце звуки распространяются очень хорошо и даже усиливаются. Именно на этом была основана одна из психических пыток заключенных этой больницы в сталинское время.
Создана она была в 1951 году. И тогда даже не скрывали, что создана она для того, чтобы без суда содержать в ней людей, неугодных режиму. Тогда и врачей в этой «больнице» было столько же, сколько и в тюрьме, и права их ничем не отличались от прав тюремных врачей. Здесь в те времена смена постов производилась так: на первом этаже сменяющийся надзиратель во весь голос выкрикивал: «Пост по охране самых опасных врагов народа сдал», и заступающий вторил: «Пост по охране самых опасных врагов народа принял…» Это слышно было во всех камерах всех этажей. Затем то же самое повторялось на втором этаже, потом на третьем, четвертом, пятом. И так изо дня в день, при каждой смене. Теперь этого нет. Теперь это учреждение возглавляется врачами, и врачи во всех делах, связанных с содержанием тех, кто попал в больницу, играют решающую роль. Однако и они не в силах изменить звукопроводность здания, созданную при его постройке. Поэтому все происходящее на всех этажах прекрасно слышно было и при мне.
Но для меня лично это обходилось благополучно. Возможно, условия профессии, а может, железное здоровье, которым наградили меня родители, позволили быстро приучить себя к самоизоляции от всего, что не имеет непосредственного отношения ко мне. Я мог не слышать, чем жила вся тюрьма в течение более чем двух часов – ловлей буйнопомешанного, которому удалось каким-то образом вырваться у санитаров и в голом виде носиться по всем этажам. Я мог привыкнуть не замечать непрерывную чечетку, отбиваемую у меня над головой почти круглыми сутками (перерывы наступали только на те короткие промежутки времени, когда танцор падал в полном изнеможении). Я не замечал и многого другого. И в этом отношении мое пребывание в этой больнице прошло без особого вреда для моей психики. Единственно, чего я не могу забыть, от чего иногда просыпаюсь по ночам, – это дикого ночного крика, смешанного со звоном разбитого стекла. От этого я изолироваться не мог. Во сне, видимо, нервы не защищены от таких воздействий. Но я представляю, что должен переживать человек, который все окружающее воспринимает прямо на открытую нервную систему, у кого не развиты, как у меня, защитные нервные функции.