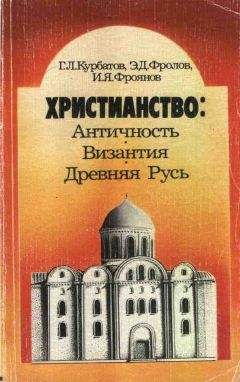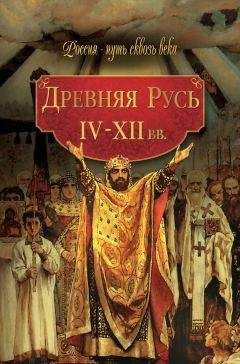Казимир Валишевский - Елизавета Петровна. Дочь Петра Великого
В Версале же не знали вовсе, что думать обо всем этом загадочном происшествии, а его последствия только усилили общее недоумение.
III. Между Версалем и МосквоюМаркиз должен был остановиться в Берлине. Так было решено при Версальском дворе. У Франции установились за последнее время с Пруссией какие-то странные отношения, непохожие ни на дружбу, ни на полный разрыв; Фридрих словно нарочно отказывался их прояснить. И Версальский двор надеялся, что бывший посол в России, как лицо теперь неофициальное, может быть, воспользуется своей прежней близостью к прусскому королю, чтобы позондировать коварного монарха и проникнуть в тайну его намерений. Но Шетарди ждала здесь новая неудача. Напрасно когда-то «желанный гость» Рейнсберга старался найти в лице короля бывшего наследного принца, принимавшего его у себя так радушно. Даже в Шарлоттенбурге Фридрих держал себя с Шетарди высокомерно, насмешливо, почти презрительно и говорил с горечью о намерении, которое он приписывал Франции, «примирить Север за его счет» и «войти в соглашение со Швецией», разделив Пруссию. Не зная, как убедить короля в ложности этих обвинений, Шетарди в конце концов стал поддакивать выдумке Фридриха: «Да, – сказал он, – об этом подумывали одно время, но это был план Бестужева». Фридрих должен был прикусить язык: «Хорошо, не будем об этом говорить». Но он остался по-прежнему мрачным.
Зато еще в Берлине к маркизу прибыл из Версаля курьер с утешительной вестью: Кантемиру было поручено официально заявить, что его государыня будет счастлива увидеть вновь маркиза Шетарди в России. И Французский двор предоставлял маркизу последовать, если он желает, этому указанию и повернуть назад. Но он и не подумал этого сделать. Он не мог возвратиться, пока Бестужевы оставались у власти. Согласно совету Лестока, он достаточно ясно поставил перед Елизаветой вопрос: «Они или я». Он написал лейб-медику, прося его еще раз объясниться по этому поводу с императрицей, а сам продолжал путь. Во Франкфурте его ждали известия из Петербурга: среди них были и добрые, были и дурные. Елизавета по-прежнему вздыхала по своему спутнику по богомолью, но Бестужевы оставались хозяевами положения и самовластно управляли внешними делами России. Еще не дав маркизу уехать из Москвы, они уже подняли вопрос о возобновлении оборонительного союза с Англией. На замечание Вейча, что лучше подождать отъезда француза, вице-канцлер воскликнул: «К чему? Ее величество одобрила трактат». И 6-го августа проект нового договора, списанный со старого лишь с небольшими изменениями, был отправлен в Лондон.[407] В это же время английский посланник стал стараться привлечь на свою сторону самого Лестока. «Не щадя здоровья и кошелька», он провел несколько ночей в обществе лейб-медика и, оставив на зеленом поле изрядное количество фунтов стерлингов, ушел с уверенностью, что его партнер не откажется от пенсии и сделает все необходимое, чтобы ее заслужить. И действительно, несколько дней спустя этот единственный друг и поверенный тайн маркиза Шетарди написал английскому королю благодарственное письмо, и, чтоб доказать свою искренность, согласился примириться с Бестужевыми.[408]
Со своей стороны Мардефельд писал Фридриху, что русские министры просят его смотреть на заключение оборонительного союза с Пруссией как на вопрос решенный. Он также указывал, что, «как ни пристрастен Лесток к известному двору», он значительно «исправился» со времени отъезда своего оракула. Одновременно к Мардефельду пришло известие из Берлина, что, Чернышев очень хлопочет об его отозвании. Не зная, кого считать виновником этих интриг, он стал подозревать Шетарди, и Фридрих готов был согласиться с ним, хотя и указывал ему, что кардинал Флери «отпирается от этого, словно от убийства», и отказывается допустить мысль, чтобы представитель Франции осмелился действовать противно намерениям своего двора. «Молчите», – писал король в заключение своему агенту, – и не подавайте виду, что вы знаете об интригах Шетарди».[409] Но в Москве эти интриги не оказали никакого действия. Елизавета продолжала быть милостива к Мардефельду и, после того как Россия примкнула к Бреславльскому договору, все стали считать, что заключение союза с Пруссией – вопрос лишь нескольких дней. На горизонте пугала только одна темная туча: говорили, кроме поручений, данных Елизаветой Шетарди к Чернышеву, маркизу удалось вырвать у нее словесное обещание женить герцога Голштинского на французской принцессе. Воронцов уверял, что д’Аллион уже получил соответствующие приказания на этот счет.
Легко представить себе волнение прусского посланника и его английского коллеги. Но хотя их подозрения и не были лишены некоторого основания, – сведения, полученные ими, были в общем неточны, и их горе сменилось бы радостью, если б они знали всю правду. Шетарди не принимал никакого участия в этом деле. Одному д’Аллиону пришлось быть в нем посредником, ввиду прямого предложения, сделанного ему императрицей. Елизавета, как Петр I и Екатерина I в свое время, лелеяла мечту породниться с французским королевским домом и женить племянника на одной из дочерей Людовика XV. Ответ Версальского двора не замедлил прийти. Елизавета легко могла бы предвидеть его и не напрашиваться на неизбежное оскорбление. Я уже говорил в другом месте, на какие препятствия этот проект личного союза натолкнулся в прошлом; теперь он вызвал в Версале те же чувства оскорбленного высокомерия; а менее века спустя Русский двор имел возможность на той же почве отплатить Франции в лице Наполеона за обиду, нанесенную дочери Петра Великого. Но Елизавета, кроме того, чрезвычайно неудачно выбрала время, чтоб попытаться восторжествовать над этими чувствами. «Если бы даже ее намерение не нравилось так мало его величеству, как я на это указывал недавно г. де ла Шетарди, – писал Амло д’Аллиону, – вы все-таки должны были бы избегать всякого разговора на этот счет. Царице приходят различные мысли, из которых некоторые по-видимому благоприятны нашим интересам; но она ни одну из них не оставляет при себе, а сообщает их своим министрам, которые, как она знает, чрезвычайно враждебны Франции и собираются вступить в союз со всеми нашими врагами. Я даже не думаю, чтоб она приказала выключить из числа условий этих союзов, – как она подавала на то надежду – тот случай, когда она будет принуждена оказывать помощь против Франции. Как же мы можем говорить о ее добром расположении? Напротив, все дает повод подозревать, что она вас обманывает, потому что нельзя допустить, чтоб ее слабость была настолько велика, что она должна была бы всегда поступать вопреки своим уверениям».[410]
Этот отказ был неизбежен. Положим, в Версале могли бы его смягчить, следуя примеру Фридриха. Дипломатическая находчивость прусского короля только что была подвергнута испытанию по этому же поводу: прежде чем обратиться к д’Аллиону, Елизавета говорила с Мардефельдом. И когда Фридрих узнал о предложении императрицы, он, правда, спросил своего агента, не сходит ли он с ума, и заявил, что никогда «не купит ценою золота несчастья любимой сестры»,[411] но официально сделал вид, словно не понимает, что Елизавета имеет в виду принцессу его крови, и, рассыпавшись перед императрицей в уверениях любви, преданности и заботы о будущем ее семейства, стал подыскивать для нее невесту, выбор которой удовлетворил бы и его, и ее. И ему действительно удалось ее найти.[412]
Результатом всего этого было торжествующее донесение, которое Мардефельд послал в октябре своему государю; он уже не находил нужным щадить двор, так плачевно оберегающий свои интересы: «Я надлежащим образом указал министрам на интриги Франции и Швеции против России. Я заметил, что им причиняет бесконечное удовольствие все, что они узнают о недобросовестности Версальского двора и о предосудительности его поступков; поэтому пока нынешнее министерство останется у власти, нечего бояться, что французская партия возьмет верх. Маркиз Шетарди, невзирая на свой ум, так сильно повредил делам своего двора, став на ножах с русскими министрами, что потребуется немало времени, чтобы их восстановить… и с тех пор как императрица отдала почти все свое доверие великому канцлеру и его зятю генерал-прокурору, мы можем не бояться смены министерства».
В ноябре, правда, смерть великого канцлера, князя Черкасского, и избрание герцога Голштинского наследником шведского престола, представленное ловким маркизом Ланмари как результат его стараний, вернули на время кредит Франции. Была даже минута, когда англо-русский договор едва не пострадал от этого. Но аванс, выданный Вейчем Лестоку в зачет его пенсии, сделал чудеса, и 11 декабря 1742 года договор был подписан, «разбивая все виды Версальского двора», по выражению английского посланника. На очереди, положим, оставался торговый франко-русский договор, но, замечал Вейч, ожидаемый закон против роскоши должен был свести его на нет, так как он воспрещал все предметы роскоши французского происхождения. И этот закон был действительно издан. Что же касается избрания герцога Голштинского, – продолжал Вейч, – то это напрасный труд. Герцог не может царствовать и в Швеции, и в России. Поневоле будут принуждены его заменить его дядей, епископом Любским, которого вряд ли можно считать французом и который женится на английской принцесс. Маркиз Шетарди может возвращаться. Его интриги будут бессильны. Притом Елизавета не выказывает никакого желания его видеть. Ее занимает другое: она страстно мечтает получить орден Подвязки.