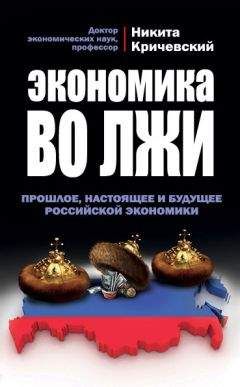Ян Левченко - Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии
140
Вообще, замысел издать отдельную книгу о молодом (35 лет) и малопочтенном литераторе, заплутавшем между наукой, публицистикой и художественной прозой, был прямым вызовом традиции юбилейных изданий наподобие знаменитого Венгеровского сборника. Семантика этого жеста состояла также и в отнесении Шкловского к числу наиболее злободневных писателей современности: сборник статей о нем органично вписался бы в ряд, начатый аналогичными работами, такими как сборник о Вс. Иванове, изданный «Никитинскими субботниками» в 1927 г., «Михаил Зощенко. Статьи и Материалы» (Л., 1928) и т. п. В черновиках готовившейся статьи Тынянов писал о Шкловском: «Я думаю о нем, как о писателе нового типа. У него есть данные для этого. Совсем новые, совсем голые явления не выживают. Судьба их плодовита для других, другие едят ее. Так съели, как тотем, Хлебникова. Нужна какая-то смесь, даже неразбериха, чтобы не оказаться вне литературы, быть с нею связанным» [Тынянов, 1977, с. 569].
141
Трудно не заподозрить, что перечисление одиозных для тогдашнего читателя терминов раннего формализма, как и синтаксическая конструкция фразы, в целом отсылают к фрагменту из 1-го короба «Опавших листьев», который Шкловский приводит в финале работе о Розанове. Для него это аллегории собственного творчества: «…Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины. – Что это? ремонт мостовой? – Нет, это “сочинения Розанова”. И по железным рельсам уверенно несется трамвай. Я применяю это к себе» [Шкловский, 1990, с. 139].
142
Ср.: «Газеты, я думаю, так же пройдут, как и “вечные войны” Средних веков, как и “турнюры” женщин и т. д.» [Розанов, 1990, с. 29]. Обращает на себя внимание, что «женщины», частотные для мотивного словаря Шкловского, исчезают в его пересказе Розанова и вновь появляются у Платонова уже в связи с темой одиночества, со всей возможной серьезностью обыгранной в Ц.
143
В более поздней статье австралийская исследовательница остроумно анализирует текстовые аллюзии на СП, которые обнаруживаются в «Белой гвардии», а в итоге приходит в выводу, что Шкловский с его нечеловеческой активностью и проницательностью, идеологически близкий Булгакову, но органически чуждый его жизненным интуициям, послужил одним из далеких, многократно искаженных, но все же прототипов Воланда [Михайлик, 2002, с. 482–484].
144
Впрочем, современники, симпатизировавшие формалистам, считали «алхимиками» как раз их противников: «В сфере изучения явлений духовной культуры до сих пор еще господствует алхимические воззрения, давно изжитые в науках о природе. Современное естествознание, за исключением немногих чисто описательных наук, далеко отошло от конкретного явления. Оно безжалостно кромсает, режет и расчленяет живой, единый и целостный факт, изучая в изолированном виде все его составные элементы: чем чище и полнее изоляция, тем лучше. <…> В науках о культуре алхимисты и натурфилософы до сих пор еще обладают огромным влиянием, и всякая попытка к новому и новому расчленению изучаемых явлений, к абстрагирующему анализу встречает зачастую резкий отпор и презрительные усмешки» [Энгельгардт, 1995, с. 109–110].
145
Ср. также в связи с репликой «Все мерзавцы…» фрагмент из киевских воспоминаний И. Эренбурга: «Метеором промелькнул В Б. Шкловский; прочитал доклад в студии Экстер, блистательный и путаный, лукаво улыбался и ласково ругал решительно всех» [Чудакова, 1988, с. 76].
146
Один из рецензентов всерьез сличает фактографию СП с такими текстами, как: Перетц Г.Т. Записки коменданта Таврического дворца. Пт., 1918; Ропшин В. [Савинков Б.] Из действующей армии; Лунгин Н. [Степун Ф.] Письма прапорщика-артиллериста. М., 1918; Керенский А.Ф. Дело Корнилова. М., 1918; Верховский А.М. Россия на Голгофе. Пт., 1919 [Вишняков, 1921, с. 210–211].
147
Ср. реакцию Драгоманова на истерику Некрылова: «Ну, милый, милый, брось, чего там… Наше время еще не ушло. Живыми мы в сейф не ляжем» [Каверин, 1977, с. 315].
148
Одномерность и неполнота образа Некрылова корреспондирует с неполнотой в описании той роли, которую играл формализм в литературной и политической жизни второй половины 1920-х годов. По жесткому замечанию позднейшего критика, Каверин не менее страдал от самоцензуры, чем Шкловский, не раз удостаивавшийся его нелестных отзывов. В частности, в романе формализм трактуется лишь в противостоянии академической науке, хотя в это время «его приканчивали за противостояние марксизму» [Иванов, 2002, с. 210].
149
Эйхенбаум в своем настороженном отзыве на футуристический диспут в феврале 1914 г. остается адептом традиционных взглядов; теоретические поиски Шкловского его предсказуемо пугают: «…поток непозволительных глупостей; <.. > тут были слова и о вещах, и о костюмах, и о том, что слово умерло, что люди несчастны от того, что они ушли от искусства, и т. д. Это была речь сумасшедшего» [Чудакова, Тоддес, 1987, с. 12]. Через четыре года ситуация кардинально изменится. 22 июля 1918 г. Эйхенбаум пишет в дневнике: «Заходил В.Б. Шкловский – читал черновик своей работы о “сюжетосложении”. Очень интересно и очень заманчиво! <.. > Сильно расшевелило меня – стал думать о своей работе. Смущает меня только какая-то неопределенность ее. Я мечусь между больными вопросами и остриями и конкретно-эмпирической работой» [Эйхенбаум, Дневник, 245, 13]. Смена оптики приводит, среди прочего, к смене ролей. Недавний «сумасшедший» превращается в предмет подражания и причину негативной авторефлексии.
150
Исключения – статья «К вопросу о звуках стиха» (1920), написанная под влиянием Осипа Брика, и, по сути, единственная «чисто» формалистская книжка Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (1922).
151
Оппоненты формалистов не без удовлетворения отметили то, что сами посчитали проявлением кризиса и «оппортунизма» (подробнее об этом восприятии «бытовой» теории см. [Hansen-Loeve, 1986, р. 98 passim]. Ученики и последователи, драматически переживавшие свою «вторичность», не приняли его доклад на семинаре в ГИИИ, признавая в приватных текстах: «…мы встретили его новую, любимую, вынянченную научную идею единым фронтом недоброжелательства и сухих подозрений» [Гинзбург, 2002, с. 396].
152
Подробный сравнительный анализ пересекающихся концептов быта, противостоящих специфическому пониманию Эйхенбаума, см. [Флакер, 1986].
153
«Н.С. Гумилев звал меня в акмеисты и напечатал два моих стихотворения в “Гиперборее”», – пишет Эйхенбаум в 1929 г. Интересно, что в предыдущем абзаце, разъясняя современному читателю, почему он писал стихи, Эйхенбаум явно корректирует мотивировку, пропуская свое тогдашнее восприятие стихотворной речи через более поздний код остранения: «Стихи рождаются из потребности задержаться на слове, рассмотреть его, поиграть с ним. В обычном употреблении слова несутся беспорядочным, мутным потоком <сниженный аналог бергсоновского duree? – Я.Л.> – стихи замораживают их и превращают в прозрачные льдинки, играющие на солнце цветами радуги» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 53].
154
Ср. из письма Шкловскому: «К тебе и к Юрию приближается проклятый пушкинский возраст – мне очень больно за вас. Толстой отделался от него “Войной и миром” и Ясной Поляной. <…> Мое счастье, что в ваши годы я попал в разгар революции и при светильне писал “Молодого Толстого”» [Панченко, 1984, с. 291]. После публикации Тыняновым и Якобсоном реставраторских тезисов по «проблемам изучения литературы и языка» (Новый ЛЕФ. 1928. № 12) такая прямота оценки в высшей степени показательна. Когда во главу угла ставится проблема социальной и личной идентичности, как это произошло с формалистами в указанный период, чисто методологические декларации перестают убеждать своих создателей. Инициатива Якобсона, не чувствующего себя эмигрантом, столкнулась с внутренней эмиграцией тех, кто остался в России и осознал свою выключенность из истории.
155
Есть мнение, что в научных статьях Тынянова ощущается вдохновение, которого не видно в его художественных текстах [Золотоносов, 1995/1996, с. 21]. Думается, что это оценочное суждение справедливо, пусть и с рядом допущений, и для Эйхенбаума. Художественное творчество в его традиционном воплощении как было, так и осталось для Эйхенбаума кошмаром графомании, пусть и эффектно стилизованным в 1930-е годы под художественную задачу (см. его роман «Маршрут в бессмертие», 1934).
156
На тот момент матрица спекулятивной диалектики была уже достаточно усвоена формалистами и их противниками. Гегель в равной мере приватизируется и теми, и другими. Разница в том, что формалисты пытаются не использовать, но прочитать Гегеля (см. [Парамонов, 1995; Mitchell, 1976; Калинин, 2001]).