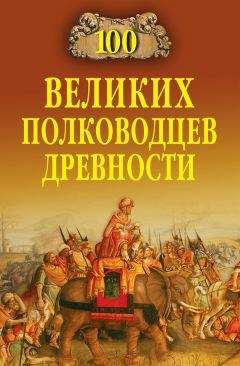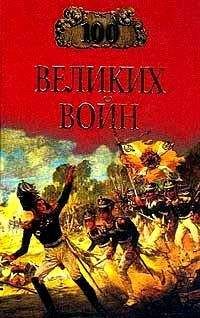Александр Махлаюк - Римские войны. Под знаком Марса
Друз Старший
Мятеж принял угрожающий размах. Восставшие отправили представителей к верхнегерманскому войску, чтобы склонить его на свою сторону, и готовились, оставив берег Рейна без защиты, устремиться в Галлию, дабы разграбить ее богатые города. Сведения о восстании дошли до враждебных германских племен, которые могли вторгнуться в римские владения, как только граница окажется открытой. Попытка подавить мятеж силами вспомогательных войск и союзников означала бы начало междоусобной войны и к тому же не сулила верного успеха, учитывая силу закаленных легионов. Трезво оценив сложившееся положение, Германик принял решение пойти на уступки мятежным легионам. От имени Тиберия было составлено письмо, в котором ветеранам, отслужившим по двадцать лет, давалась отставка, отслужившие шестнадцать лет переводились в разряд вексиллариев; всем воинам в двойном размере выплачивались денежные подарки, завещанные покойным Августом.
Агриппина Старшая
Тем временем в ставку Германика прибыли уполномоченные сената, посланные Тиберием, чтобы на месте разобраться в ситуации. Эта депутация едва не испортила все дело. Заподозрив, что посольство имеет предписание сената отнять у войска добытые мятежом привилегии и деньги, воины едва не расправились с главой делегации, бывшим консулом Мунацием Планком. Он искал спасения у знамен и орла в лагере легиона, но если бы орлоносец Кальпурний не уберег его от ярости солдат, смерть настигла бы его прямо у легионных святынь. Кое-кто угрожал смертью и самому Германику. Но больше всего Германик боялся за свою беременную жену и малолетнего сына, которые находились с ним в лагере. Гордая и неукротимая нравом Агриппина долго не хотела покидать любимого мужа, заявляя, что ей, внучке Августа, не пристало отступать перед опасностями и бояться обезумевших солдат. Но в конце концов Агриппина уступила мольбам мужа. Было решено, что она отправится в Трир, ближайший город в Галлии, расположенный в землях племени треверов.
Калигула
Взоры восставших воинов привлекло необычное зрелище: из лагеря выступало без охраны горестное шествие рыдающих женщин, окружавших жену полководца с ребенком на руках. Солдаты видели и скорбные лица остающихся, и самого Германика – не в блеске могущества и как бы не в своем лагере, а в захваченном врагом городе. Больше всего смутило воинов, что беглянки направляются к треверам, полагаясь на преданность чужестранцев, а не римлян. «При виде этого, – передает Тацит, – в воинах просыпаются стыд и жалость; вспоминают об Агриппе, ее отце, о ее деде Августе; ее свекор – Друз; сама она мать многих детей, славится своим целомудрием; и сын у нее родился в лагере, вскормлен в палатках легионов, получил от солдат прозвище Калигулы, потому что, стремясь привязать к немупростых воинов, его часто обували в солдатские сапожки[39]». Многие воины устремляются за Агриппиной, просят ее вернуться, не позорить их своим недоверием; другие возвращаются к Германику, умоляя простить их своевольное и беззаконное поведение.
Исполненный скорби и гнева Германик обратился к легионерам с страстной речью, слова которой еще больше изменили настроения мятежников. Совершенно преображенные воины сами просят его покарать виновных, проявить милосердие к заблуждавшимся, вернуть легионам их питомца, не отправлять супругу как заложницу к галлам. Чтобы убедиться в искренности раскаяния воинов, Германик предоставляет им самим найти и выдать зачинщиков бунта. Связанные вожаки мятежа были доставлены на суд легата одного из легионов. Тацит так описывает это необычное судилище:
«Собранные на сходку, стояли с мечами наголо легионы; подсудимого выводил на помост и показывал им трибун; если раздавался общий крик, что он виновен, его сталкивали с помоста и приканчивали тут же на месте, И воины охотно предавались этим убийствам, как бы снимая с себя тем самым вину; да и Германик не препятствовал этому; так как сам он ничего не приказывал, на одних и тех же ложилась и вина за жестокость содеянного, и ответственность за нее». В то же время, понимая, что одной из непосредственных причин возмущения солдат были жестокость и жадность центурионов, Германик дал воинам возможность самим решить их участь. «Каждый вызванный полководцем центурион называл свое имя, звание, место рождения, количество лет, проведенных на службе, подвиги в битвах и, у кого они были, боевые награды. Если трибуны, если легионы подтверждали усердие и добросовестность этого центуриона, он сохранял свое звание; если, напротив, они изобличали его в жадности или жестокости, он тут же увольнялся в отставку».
Однако два нижнегерманских легиона, те, что первыми подняли мятеж и совершили самые свирепые злодеяния, продолжали упорствовать и не желали смириться. Участь, постигшая их казненных товарищей, нисколько их не устрашила. Поэтому Германик снарядил легионы, флот, союзников и был готов обрушиться на мятежников, если они не вернуться к повиновению. Но прежде чем обрушить возмездие на восставших, он решил дать им шанс одуматься и последовать примеру других легионов. В своем письме легату этих легионов он сообщил, что, если до его прибытия они сами не расправятся с главарями бунта, он будет казнить их поголовно. Командующий Цецина тайно пригласил к себе наиболее благонадежных легионеров и младших командиров. Сообщив им о содержании письма, он призвал их вместе с другими воинами, сохранившими верность долгу, в назначенное время напасть на самых непримиримых бунтовщиков. «И вот по условленному знаку они вбегают в палатки и, набросившись на ничего не подозревающих, принимаются их убивать, причем никто, за исключением посвященных, не понимает, ни откуда началась эта резня, ни чем она должна кончиться.
Тут не было ничего похожего на какое бы то ни было междоусобное столкновение изо всех случавшихся когда-либо прежде. Не на поле, не из враждебных лагерей, но в тех же палатках, где днем они вместе ели, а по ночам спали, разделяются воины на два стана, обращают друг против друга оружие. Крики, раны, кровь повсюду, но причина происходящего остается скрытой; всем вершил случай. И не явились сюда ни легат, ни трибун, чтобы унять сражавшихся: толпе было дозволено предаваться мщению, пока она им не пресытится. Вскоре в лагерь прибыл Германик. Обливаясь слезами, он сказал, что происшедшее – не целительное средство, а бедствие, и повелел сжечь трупы убитых».
Таким страшным эпизодом Тацит завершает свой драматический рассказ о восстании в паннонских и германских легионах. В конечном итоге легионы все же добились выполнения своих основных требований. Все уступки, которые Германик сделал в германском войске, Тиберий распространил и на паннонское. Самим солдатам пришлось заплатить за это дорогую цену. Их воинская честь оказалась запятнанной, и они пылали желанием загладить свою вину и вновь вернуть расположение полководца. Как образно пишет Тацит, «все еще не остывшие сердца воинов загорелись жгучим желанием идти на врага, чтобы искупить этим свое безумие; души павших товарищей можно умилостивить не иначе, как только получив честные раны в нечестивую грудь». Германик воспользовался этим настроением войск и сразу же после того, как легионы были приведены к покорности, предпринял поход против германцев с целью отомстить за гибель легионов Квинтилия Вара.
Тиберий радовался подавлению мятежа, но завидовал возросшей популярности и военной славе Германика. Тем не менее Германику был назначен триумф. Однако довести до конца завоевания за Рейном Тиберий ему не позволил – отчасти из-за зависти, отчасти из-за трезвого понимания того, что эта задача пока не по силам Империи. В 18 г. н. э. Тиберий отозвал Германика и отправил на Восток. Здесь год спустя возрасте 34 лет он умер, злодейски отравленный наместником Сирии Пизоном и его женой Планциной.
События 14 года в Паннонии и Германии еще раз со всей очевидностью показали, что армия является той силой, с требованиями которой нельзя не считаться. Военные мятежи, когда, по словам Тита Ливия, «не порядок, не правила, не распоряжения начальства – все вершили солдатская прихоть и произвол», и в последующем не раз случались в римской истории. Они были и оставались тем крайним средством, которым могли воспользоваться солдаты, чтобы отстоять свои интересы. Об этом приходилось помнить каждому императору. Это было ясно и Тиберию, который не раз повторял, имея в виду свое положение императора: «я держу волка за уши». У волка, как известно маленькие уши, и эта римская поговорка употребляется, когда речь идет об очень трудном положении. Опасно было во всем потворствовать воинам – это неизбежно вело к падению дисциплины. Но и не считаться с их требованиями было невозможно. В высшей степени примечательно, что и Германик, и другие военачальники в начале мятежа стремились действовать не столько беспощадными карами, сколько вступая в переговоры с мятежниками, пытаясь их убедить. Делегаты восставших легионов направлялись к императору. С другой стороны, командиры пытались внести раздоры в ряды мятежников, играя на различиях в интересах между новобранцами и ветеранами, на ревности и соперничестве легионов. Показательно, что командующие обращались к чувству чести и долга и даже среди солдат, зараженных безумием мятежа, находили немало тех, для кого эти понятия были не пустым звуком.