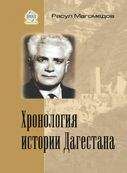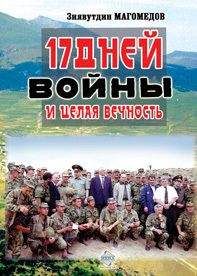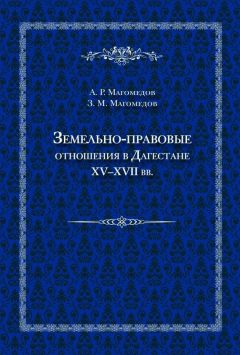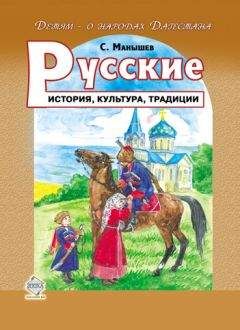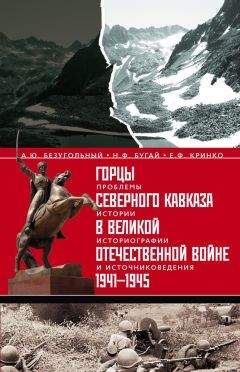М. Воробьев - Русская история. Часть I
Монастырский приказ не должен был подобрать под себя все территории — оставалась собственно патриаршая область, которая сохраняла старое управление. Например, в настоящий момент Москвой управляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Он регулирует процесс назначений, снятий, передвижек. В то время была тоже собственно патриаршая территория, и там монастырский приказ не должен был действовать. Он распространялся вообще на церковные территории вне патриаршей области. Но Никон и этого не желал допускать.
Еще в бытность свою архиепископом Новгорода Великого он добился благодаря своим хорошим отношениям с царем Алексеем Михайловичем особых поблажек для своей епархии, для себя лично и когда {стр. 107} стал патриархом, эта тенденция, естественно, усилилась. И здесь мы видим, что при Никоне церковная власть действовала откровенно против государственных законов, а государственные законы не действовали, и уж во всяком случае государственная власть была непоследовательна.
Мы уже говорили о том, что важнейшим фактором стабильности в России, ее успешного развития был всегда союз Церкви с государством. В данном случае в вопросе о территориях, об управлении этими территориями, а если хотите, о юрисдикции Никон как бы вбивает клин между церковной и светской властью. Конечно, можно сказать, что именно светская власть покушалась на церковные земли. Но дело все в том, что потом, после Никона, все равно этот процесс прошел именно так, а не иначе. Никон явно не чувствовал ход истории, а кроме того, его не лишали прав чисто канонических, а что касается светского контроля за экономической стороной жизни, то его, бесспорно, хотели ввести. При чем здесь Московский патриарх, когда вопрос, связанный с теми или иными землями, должен разбираться в самом обычном суде на основании всеобщего государственного закона? И что это за страна, где два законодательства, два верховных правителя, две хозяйственные системы (государственные земли и церковные)? Ведь это же факторы нестабильности — и хозяйственной, и политической, и религиозной.
Никон этого не почувствовал, он расценил это как покушение на права — не свои личные, а права Церкви. Не знаю, как вы отнесетесь к вопросу о том, что Никон хотел доказать превосходство церковной власти над светской или не хотел уступать домогательствам светской власти в отношении к власти церковной Вопрос это не новый, и своих адептов имеют сторонники той и иной точки зрения, но бесспорно, что Никон своей политикой в отношении монастырского указа фактически как бы создавал еще одно государство внутри России. Конечно, это вызвало резкий протест.
Всякое дело можно улучшить или испортить своими личными качествами, и в этом отношении Никон — фигура совсем не простая. С одной стороны, истовый, способный на личные жертвы, бесспорно честный человек. С другой стороны, человек заносчивый, высокомерный, гневливый и в силу этих качеств способный на несправедливость по отношению к отдельным людям. Он внес во все вопросы, будь то вопрос о Монастырском приказе или об исправлении книг, свой личный темперамент, что дела не улучшило, а наоборот; во все времена люди легко обижались и обижали, а в вопросе, который стоял так остро, подобные вещи были недопустимы.
Церковная жизнь после смуты, конечно, была в определенном упадке. Это было неизбежно, потому что само государство было в упадке. В самом народе был разброд: поколения, которые выжили при смуте, сформировались при смуте, не представляли из себя ничего особенно выдающегося. Они были сформированы в период острейшей политической борьбы, острейшей опасности для государства, поэтому среди них мы можем увидеть самые разные взгляды, в целом не всегда конструктивные. В таких случаях очень часто, не видя собственных корней, собственных истоков, собственных традиций (которые в период смуты, естественно, были утрачены), обращаются к авторитетам, а на Руси уж так повелось, что во все времена мы искали авторитетов где-то «там». Сейчас ищем в Германии или в Америке, а тогда решили поискать авторитета в Греции.
Когда-то, в XV столетии, когда устраивалась Флорентийская уния, несмотря на феодальную войну, у России нашлось достаточно здравого смысла, чтобы очень спокойно и твердо разрешить все эти проблемы и, не занимая опыта у греков, поставить все на свои собственные рельсы и совершенно точно с канонической точки зрения определить права Русской Церкви. Такое было время, когда была учреждена автокефалия. Зачем Никону понадобилось искать ума у греков, судить не берусь. Думаю, это происходило от того, что он сам был человеком неглубокого образования, очень поверхностного, начетнического.
Вы знаете, что печатный станок работал у нас с середины XVI века. Первая книга точно датирована выходными данными 1564 годом — это «Апостол» Ивана Федорова 1564 года. Незадолго перед этим вышло еще несколько анонимных изданий без выходных данных, хотя и высокого качества — выпускал их для пробы Иван Федоров или кто-то еще, судить не берусь. А дальше Иван Федоров, по-видимому, был вынужден бежать из любезного отечества, из столицы нашей родины — с одной стороны, начиналась опричнина, а с другой стороны, если принять остроумную гипотезу А. В. Карташева, переписчики книг могли увидеть в печатном станке страшное орудие, которое разрушит их монополию, и, учитывая, что в условиях опричнины доносительство более чем поощрялось, постарались оклеветать Ивана Федорова, и поэтому он вынужден был спасаться из Москвы бегством. Поражает тот факт, что когда заработал печатный станок, тенденция к переписыванию книг сохранилась еще надолго. У нас писали рукописные сборники и в XVII, и в XVIII, и даже в XIX веке. Но тем не менее встал вопрос: что печатать и как печатать? И здесь классический пример являет Иван Федоров, который, находясь в Остроге у своего покровителя князя Константина Острожского, задумал напечатать Библию архиепископа Геннадия Новгородского, которая хранилась в Москве. Несмотря на ужасные времена, он обратился за помощью, и в Острог прислали этот единственный уникальный экземпляр — на несколько лет! Она была не просто механически «перешлепана» с рукописи на печатный лист. Была произведена корректура, редакционная правка, сличение отдельных частей с новыми переводами — короче говоря, к делу отнеслись серьезно, после чего и появилась знаменитая Острожская Библия, которую печатали фактически два года. А рукописный экземпляр благополучно вернулся в Москву, где он и хранится — в настоящее время в отделе рукописей Исторического музея.
Иван Федоров понимал, что слепо копировать любой рукописный текст, пусть даже и Библию, нельзя: туда могут вкрасться и описки, и просто ошибки. В конце XVI — начале XVII веков печатное дело {стр. 108} набирало темпы, а после смуты начинается систематическое печатание книг в довольно большом объеме. Патриарх Филарет не любил ни латинистов, ни латинской культуры, и это легко понять, если вспомнить, что он провел в польском плену не один год. Поэтому он больше ориентировался на греков, но делал это достаточно сдержанно. Его преемники, Иоасаф и Иосиф, ничего принципиально нового в дело печатания книг не вносили, если не считать, что при Иосифе было выпущено несколько книг, которые очень чтут старообрядцы. Их издали без особой лишней справы по тем рукописям, которые, видимо, были под рукой, и оказалось, что это как раз то, что было нужно старообрядцам.
Так, вероятно, пошло бы и дальше, если бы Алексей Михайлович не задумал реформу церковных обрядов — не кардинальную, но направленную на некоторые улучшения. Дело в том, что у нас накопилась масса безобразий: многоголосное пение, не читались часы между службами, существовала масса мелких обрядовых нарушений, батюшки позволяли себе во время службы беседовать с прихожанами и т. д. Был составлен целый реестр всяких исправлений, в том числе надо было упорядочить и книги. Для Никона, который наследовал все эти проблемы, книги на первый план не вышли. Он должен был заниматься вообще улучшением всего. И вот здесь вместо того, чтобы посмотреть всерьез, что же было у нас, собственно говоря, хорошего — ведь не все же было плохо, — он обратился к грекам. Те обрадовались случаю показать свое превосходство, и вот каждый, кто приезжает из Греции, начинает тыкать пальцем во все то, что «не по уставу» — т. е. не соответствует греческому образцу. И с ними тут же начинают во всем соглашаться, не думая, не проверяя, откуда у греков так, а не иначе, а почему у нас именно так получилось, просто считают: раз греки советуют, значит, так и надо. При том, что формально Никон сделал очень много: была собрана колоссальная библиотека замечательных рукописей, которые свезли в Москву из разных монастырей. Арсений Суханов несколько раз ездил на Восток, на Афон, откуда привез горы ценнейших книг и рукописей. Все это надо было как следует переработать, а это было сделано довольно поверхностно.