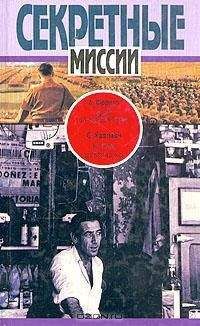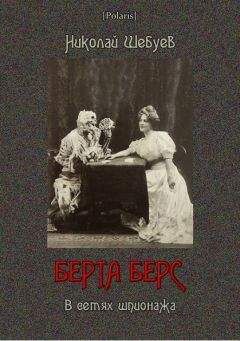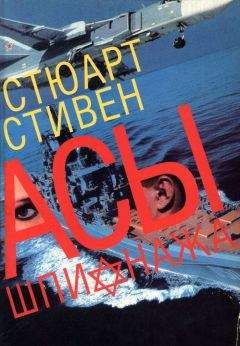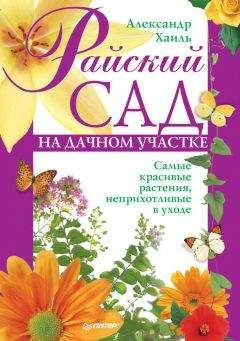В сетях шпионажа, или «Час крокодила» - Резванцев Александр Александрович
— И чего им, б…, не хватает?! — продолжал Рубакин. — Грамоте их научили, от трахомы, сифилиса и туберкулеза вылечили, электрический свет зажгли, ссать стоя научили, а они все туда же…
— Мечети взорвали, мулл постреляли, — встрял в его монолог Прядко.
— Так то ж был оплот контрреволюции!.. А ты таркинца не защищай. Узнаешь его поближе — примешь мою сторону. Это мы все совестью маемся: то нехорошо, это нехорошо, то нельзя, это нельзя. А он, коли захочет есть, отнимет кусок хлеба у ребенка, сожрет его и будет сыт. И никаких тебе угрызений, потому как зверь он, притом зверь безжалостный, коварный, хищный, и обходиться с ним надо по-звериному.
— Вот-вот, — снова возник Прядко. — На этой неверной посылке основана вся твоя порочная теория. Никому нельзя навязывать насильно своей правды, своего счастья. Неизбежно получишь противодействие, равное по силе действию. В соответствии с законом Ньютона… Ехал я сегодня в троллейбусе на работу и слышал интересный такой разговор. Русская женщина ругалась с таркинкой. Мы вам, говорит русская, университет построили, больницы, дома культуры, лампочку Ильича зажгли, троллейбус пустили, а вы нас ненавидите. Таркинка ей в ответ: мы бэз этат ваш гавно тры тышшы раз лучшэ жылы. Забырай свой нырсытэт, забырай свой тарлэйбус, забырай свой лэтрычэство и катыс атсуда!
— Говоришь, нельзя никому навязывать силком своей правды? — перебил друга Рубакин. — Не бывает правды, общей для всех. У каждого класса своя правда, у каждого народа своя правда. Чья правда верх возьмет, тот и на коне!
Зазвенел телефон. Рубакин снял трубку, послушал и весело оскалился.
— Пошли в дежурку. Голову принесли.
— Да ну?! — изумился Прядко.
— Вот тебе и да ну!
— Ведь мы оценили голову Исрапилова всего в десять ящиков водки!
— Или в четыре коровы. Пошли, пошли!
В дежурке было полно народу. У двери, робко и застенчиво улыбаясь, стоял симпатичный парнишка-таркинец. На вид ему было не более шестнадцати лет. В дальнем углу, у сейфа дежурного офицера, лежала на окровавленной мешковине бородатая голова. Выпученные глаза ее с жутким безразличием смотрели на сбежавшихся со всего управления оперов. Рубакин несколько секунд разглядывал голову Абубакара, после чего вынес заключение:
— Вроде бы он. Во всяком случае, похож здорово.
Приблизившись к голове, осторожно раздвинул синие губы большим и указательным пальцами правой руки, в то время как левой придерживал страшный трофей за волосы.
— А ну посветите кто-нибудь ему в рот фонариком!
Луч фонарика высветил два ряда отличных зубов. Лицо Рубакина исказилось яростью. Он подбежал к таркинцу и схватил его за грудки обеими руками:
— Говори, сучонок, кого зарезал!
Арби молчал. Рубакин шарахнул его о косяк, а когда парнишка опустился на пол, наподдал еще ногой.
— Говори, паскуда!!!
Плача и путаясь в соплях, Арби рассказал все как было.
— В подвал его! — велел Рубакин. — Утром разберемся с ним. И расстрелять ведь нельзя! Несовершеннолетний.
Он устало поплелся в свой кабинет. Прядко последовал за ним.
— Ты как его опознал?
— У Исрапилова зубы вставные, а у этого все свои. Хасановы зубы я вот этим самым кулаком лично высадил на допросе в тридцать восьмом.
— Что же вы его тогда не пустили в расход?
— Так он же сбежал.
— Сбежал?! Отсюда?!
— Ну да! Был у нас такой следователь Козлов. Хороший мужик, но растяпа. Так он этого Козлова оглушил следственным делом по башке и выпрыгнул со второго этажа в Суржу.
Прядко выглянул в окно. Внизу, в кромешной темноте, раздраженно урчала, спотыкаясь о валуны, быстрая горная речка Суржа. Прядко подумал, что норовом она походит на таркинца. Сейчас на дворе стоял август, и кто бы мог поверить, что в июне, в период таяния снегов, эта самая Суржа с ревом волокла к Тереку вырванные с корнями деревья, камышовые кровли бедняцких жилищ и трупы домашних животных. Одна из стен здания Нефтегорской ЧК обрывалась прямо в воду. Эта сырая замшелая стена была сложена из огромных каменных блоков. Вид она имела мрачный, угрюмый даже. Да и все здание не отличалось приветливостью, хотя его выкрасили в белый цвет. Было оно приземистым, подслеповатым. Окна первого этажа, забранные в толстые стальные решетки, постоянно напоминали перепуганным обывателям о пятьдесят восьмой статье, чудовищных сроках и длиннющих этапах. А ведь до революции здесь размещалось что-то вроде культурного центра. Тут можно было хорошо выпить, закусить и в картишки перекинуться. Отдельные «нумера» с веселыми девушками тоже имелись. Старый бардак царских времен привлек чекистов своей неприступностью. Его метровой толщины стены могли выдержать любую осаду, а воды было сколько угодно прямо под окнами.
— Ну, Козлов очухался и сиганул вслед за ним, — продолжал свой рассказ Рубакин. — Плывут они, а мы выскочили на берег и шмоляем из тэтэшников. Своего убили, а бандит ушел.
— Черт знает что! — изумился Прядко. — Это, значит, могила того самого Козлова в сквере у моста?
— Его, его. Геройски погиб при исполнении служебных обязанностей. Так сообщили родственникам и общественности. А нам всем, кто стрелял, кому по строгачу, кому по служебному несоответствию, кого уволили.
Снова зазвонил телефон.
— Еще одна голова, — ухмыльнулся Рубакин, выслушав доклад дежурного. — Пойдем, глянем!
Новую голову он приветствовал почти весело, как старую знакомую:
— Так это ж итумкальский завмаг! Хороший был человек! Ворюга, правда, но гостя принять умел! Мир его праху, и пусть земля ему будет пухом!
Мельком окинув взглядом здоровенного сорокалетнего башибузука, заросшего волосами до такой степени, что лицо под ними даже не угадывалось и только черные глаза-уголья посверкивали среди растительности, Рубакин бросил коротко:
— И этого тоже в подвал!
Уже в кабинете расслабился, позвонил в буфет и попросил два стакана чаю с лимоном. Через три минуты буфетчица Зоя поставила на его стол два наполненных до краев стакана с коньяком, а рядом положила две шоколадки. Рубакин хлопнул Зою по крутому заду и пообещал выдать ее замуж за хорошего человека, когда закончится война и если удастся дожить до победы. Друзья выпили и закурили. Ночь только начиналась, и было еще неизвестно, чем она завершится. Они работали по ночам, потому что Сталин был совой, а спали днем после обеда. По такому распорядку функционировал тогда весь управленческий аппарат гигантской империи, и никто не сомневался в том, что жить иначе невозможно.
— Спать хочется, — сказал Рубакин, мотая головой, и, неожиданно впав в лирику, добавил: — Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана… Хорошо, а? И чисто как! А мы в крови и в говне по шею. Но по-другому разве можно?! Не делают в перчатках революцию!
— Как думаешь, возьмут немцы Сталинград? — спросил Прядко.
— Может, и возьмут, но России им не взять. Кишка тонка. Да и выдохся уж фриц. По сводкам чую. А ты как думаешь, усмирим мы с тобой таркинцев?
— Побьем немцев, они сами усмирятся. Только жить нам вместе будет еще труднее, чем до войны. Westen ist Westen und Osten ist Osten, und sie kommen nie Zusammen.
Киплинга Прядко зачем-то процитировал по-немецки. Рубакин сделал ему замечание:
— Чего лопочешь не по-нашенски?!
— Я говорю, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и они никогда не сойдутся.
— Это уж точно, — согласился Рубакин.
Он заказал Зое еще по полчая, а когда принесли третью голову, даже не захотел взглянуть на нее. Послал к дежурному опера и распорядился утром снять все объявления, сулившие сто тысяч за голову Исрапилова…
После разгрома немцев под Сталинградом банда Исрапилова стала таять как сугроб в апреле. Сподвижники Хасана разбегались по аулам, принимая мирное обличье. Весной сорок третьего года остатки некогда огромной банды были окружены батальоном внутренних войск и полностью уничтожены. Главарю едва не удалось вырваться из кольца, но на его пути возник Рубакин. Они молча стояли друг против друга на краю неубранного кукурузного поля, и каждый читал в глазах противника ненависть, одну только лютую ненависть. Две очереди слились в одну. Оба повалились на землю ничком голова к голове, ломая сухие кукурузные стебли и обильно оросив пожухлую прошлогоднюю траву горячей алой кровью. Когда Прядко с солдатами нашел их, кровь еще дымилась, и от ее запаха одного из молодых бойцов стошнило. А Прядко смотрел на мертвого друга, и в голове его ни с того ни с сего вдруг всплыли стихи великого поэта и храброго воина о золотой тучке, ночевавшей на груди утеса-великана. Потом он вспомнил, что эти стихи любил покойный. Приехал оперативный фотограф Коля Маркушин и попросил усадить всех убитых бандитов под длинную изгородь, сложенную из крупных голышей. Бандитов было много, и фотографу пришлось щелкать затвором около десятка раз. В лаборатории Коля изготовил фотографии, склеил их в одну ленту, полученный панорамный снимок сложил гармошкой и засунул его в большой конверт, который стал предпоследней страницей дела «Суржа». А последний лист подшил к делу Прядко. Это было постановление о сдаче групповой разработки «Суржа» в архив. Разрабатывать было больше некого, ибо все основные фигуранты были физически уничтожены. «Хранить вечно как представляющее историческую ценность», — написал Прядко в заключение, а архивариус Семиков, в то время совсем еще нестарый человек, перенес красным карандашом последнюю фразу постановления на обложку дела и водрузил все тридцать семь томов разработки на соответствующую полку.