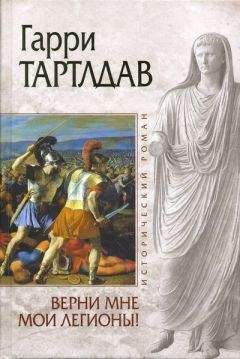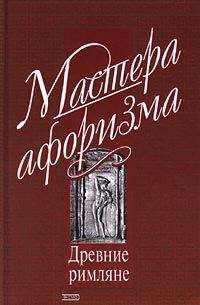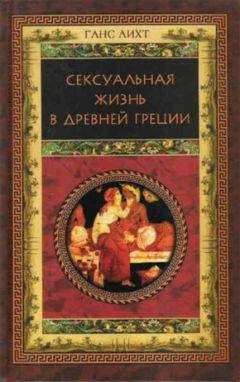Отто Кифер - Сексуальная жизнь в Древнем Риме
Эти описания, особенно описание Плутарха, показывают нам: то, что мы называем любовью, едва ли имело какое-то отношение к этим бракам. Более того, муж и жена очень часто были просватаны друг за друга родителями в раннем детстве по той или иной причине, обычно экономического характера. Самый ранний возраст, в котором можно было жениться, составлял 15–16 лет; женщина могла выйти замуж в 12 лет. Тацит женился на 13-летней девушке, когда ему самому было около 25 лет. Если при этих условиях между мужем и женой действительно возникала любовь, то это была скорее счастливая случайность, чем общее правило. Катону Старшему приписывают такую фразу: «Все народы правят своими женщинами, мы правим всеми народами, но наши женщины правят нами». Тацит же заметил: «Истинный римлянин женился не по любви и любил без изящества или почтения». Прежде всего римляне женились, чтобы родить наследников, – таково было их свободное и естественное отношение к вопросам пола.
Тем не менее, положение жены в семье не было подчиненным. Наоборот. Ее не привязывали к мужу какие-либо нежные чувства; ничего подобного римский характер не знал, особенно в «лучшие» времена, то есть в период старой республики. Но жена вместе с мужем управляла большим домашним хозяйством, во благо или во зло. Таким образом она заполняла свою жизнь, которая могла бы показаться нам очень приземленной. Колумелла ярко живописует ее следующими словами («О сельском хозяйстве», xii, praef.): «У греков, а потом и у римлян вплоть до поколения наших отцов забота о доме лежала на жене, в то время как отец приходил в свой дом как в место отдыха от тревог форума. Дом содержался с достоинством и уважением, с гармонией и прилежностью; жена была полна благороднейшего рвения сравняться в своем трудолюбии с мужем. В доме не было разногласий, и ни муж, ни жена не требовали никаких особых прав: оба трудились рука об руку».
В этой связи мы должны также обсудить вопрос материнства в жизни римской женщины. Мы уже знаем о матери Кориолана, Ветурии, женщине из легендарного прошлого, пред чьей гордостью даже доблесть ее сына обращалась в ничто. Ливий (ii, 40) пишет: «Тогда римские матери семейств толпой сходятся к Ветурии, матери Кориолана, и к Волумнии, его супруге. Общее ли решение побудило их к этому или просто женский испуг, выяснить я не смог. Во всяком случае, добились они, чтобы и Ветурия, преклонных уже лет, и Волумния с двумя Марциевыми[11] сыновьями на руках отправились во вражеский лагерь и чтобы город, который мужчины не могли оборонить оружием, отстояли бы женщины мольбами и слезами. Когда они подошли к лагерю и Кориолану донесли, что явилась большая толпа женщин, то он, кого не тронуло ни величие народа, воплощенное в послах, ни олицетворенная богобоязненность, представленная жрецами его взору и сердцу, тем более враждебно настроился поначалу против плачущих женщин. Но вот кто-то из его приближенных заметил Ветурию между невесткой и внуками, самую скорбную из всех. «Если меня не обманывают глаза, – сказал он, – здесь твои мать, жена и дети». Как безумный вскочил Кориолан с места и когда готов уже был заключить мать в объятия, но женщина, сменив мольбы на гнев, заговорила: «Прежде чем приму я твои объятия, дай мне узнать, к врагу или к сыну пришла я, пленница или мать я в твоем стане? К тому ли вела меня долгая жизнь и несчастная старость, чтоб видеть тебя сперва изгнанником, потом врагом? И ты посмел разорять ту землю, которая дала тебе жизнь и вскормила тебя? Неужели в тебе, хотя бы и шел ты сюда разгневанный и пришел с угрозами, не утих гнев, когда вступил ты в эти пределы? И в виду Рима не пришло тебе в голову: «За этими стенами мой дом и пенаты, моя мать, жена и дети?» Стало быть, не роди я тебя на свет – враг не стоял бы сейчас под Римом, и не будь у меня сына – свободной умерла бы я в свободном отечестве! Все уже испытала я, ни для тебя не будет уже большего позора, ни для меня – большего несчастья, да и это несчастье мне недолго уже терпеть; но подумай о них, о тех, которых, если двинешься ты дальше, ждет или ранняя смерть, или долгое рабство». Объятия жены и детей, стон женщин, толпою оплакивавших свою судьбу и судьбу отчизны, сломили могучего мужа. Обнявши своих, он их отпускает и отводит войско от города прочь».
Ветурия – легендарная личность, но Корнелия, знаменитая мать злосчастных Гракхов, является нам в ярком свете истории. Как выразился Бирт, она – «римская Ниоба»: другие ее сыновья рано умерли, а два оставшихся сына, реформаторы, погибли в жестоких схватках на улицах Рима.
Трагическая судьба также выпала Агриппине, матери Нерона, о которой речь пойдет ниже.
Но помимо этих великих исторических фигур, простое совершенство римской жены и матери является нам во множестве трогательных и красноречивых надгробных надписей. Очень важно, что большинство из них посвящено памяти женщин не высокородных, а из среднего и низшего слоев общества. Большое их число содержится в труде Фридлендера «История римской морали». Конечно, процитировать все их мы не можем, но несколько характерных примеров приведем. Надгробная надпись республиканского периода гласит: «Коротки мои слова, путник: остановись и прочти их. Под этим бедным камнем лежит прекрасная женщина. Родители назвали ее Клавдией. Она неизменно любила своего мужа и родила двоих сыновей. Одного она оставила на земле, другого погребла на груди земли. Ее слова были добрыми, а походка гордой. Она заботилась о своем доме и своей пряже. Я закончил; можешь идти». Вот другая, имперского времени: «…Она была духом-хранителем моего дома, моей надеждой и моей единственной любовью. Чего я желал, желала и она, чего я избегал, избегала и она. Ни одна из самых сокровенных ее мыслей не была тайной для меня. Она не знала небрежения в прядении, была экономна, но и благородна в своей любви к мужу. Без меня она не пробовала ни еды, ни питья. Разумным был ее совет, живым ее ум, благородной ее репутация». На саркофаге начертаны следующие слова:
«Здесь лежит Амимона, супруга Марка;
Доброй была она, миловидной и прилежной,
Усердной хозяйкой, экономной и опрятной,
Целомудренной, почтенной, набожной и тактичной».
Эти немногие примеры с трудом могут дать представление о массе подобных надписей.
Но самый величественный из всех памятников римским женщинам – «Царица элегий», написанная Проперцием для Корнелии, жены Эмилия Павла Лепида (последняя элегия в книге IV). После безвременной смерти Корнелии поэт рисует ее мысленный образ, обращая элегию к тем, кто оплакивает Корнелию, чтобы утешить их горе. Ни один из известных образцов обширной римской литературы не дает нам более прелестного и простого изображения высот, до которых мог подняться римский брак. Закончим наш разговор о браке в раннюю римскую эпоху цитатой из этого благородного и глубокого произведения человеческого разума.
Павл, перестань отягчать слезами мою ты могилу,
Вскрыть никакою мольбой черных дверей не дано.
Раз как только вступил погребенный в подземное царство,
Неумолимая сталь все запирает пути.
Пусть мольбы твои бог и услышит во мрачном чертоге,
Все-таки слезы твои выпьет тот берег глухой.
Трогают вышних мольбы; но примет лишь деньги паромщик,
Тени с костров за собой бледная дверь заключит.
Так-то печальные трубы звучали, как голову снизу
Мне, поджигая, с одра факел враждебный совлек.
Чем мне тут помогло супружество с Павлом, чем предков
Колесницы? Или славы залоги моей?
Были ли парки ко мне, Корнелии, менее злобны?
Вот же я то, что пятью пальцами можно поднять.
Клятые ночи, и вы, озера с теченьем ленивым,
Вся и волна, что кругом ноги объемлет мои,
Хоть преждевременно я вступила сюда невиновна,
Тени моей да воздаст суд благосклонный отец.
Если ж близ урны судьей Эак тут какой восседает,
Жребий сперва получа, кости пусть судит мои.
Пусть восседает и брат к миносскому креслу поближе,
И со вниманьем большим хор предстоит Эвменид.
Груз свой оставь ты, Сизиф; уймись, колесо Иксиона;
Влаги обманчивой пусть Тантал успеет схватить.
Пусть сегодня Цербер ни на чьи не кидается тени,
И с не гремящим замком цепь распростерта лежит.
Буду сама за себя говорить: коль солгу, в наказанье
Скорбная урна сестер пусть мне плеча тяготит.
Ежели слава кого украшала трофеями предков,
Нумантийских дедов Африка мне назовет.
Им под стать и еще толпа материнских Дибонов,
И поддержан своим каждый отличием дом.
Тут как претекста уже уступила факелам брачным,
И уж повязкой иной волос был влажный увит:
Павл, я с ложем твоим сочеталась, чтоб так лишь расстаться.
Пусть этот камень гласит: муж у меня был один.
Прахом предков клянусь, пред которым ты, Рим, преклоняйся,
Африка, пав к их ногам, с бритой лежит головой;
Тем, кто Персея, на вид подражавшего предку Ахиллу,
И Ахиллом своим чванный их дом сокрушил,
Что не смягчала никак для себя я закона цензуры,
И ни единым пятном лар не стыдила у нас.
Не повредила таким Корнелия пышным трофеям,
Нет, и в великой семье я образцовой была.
Жизнь не менялась моя: вся она до конца безупречна,
Прожили в славе добра между двух факелов мы.
Мне природа дала по крови прямые законы:
Чтоб из-за страха судьи лучшей я быть не могла.
Как бы строго меня ни судили таблички из урны,
Хуже не стать ни одной, что просидела со мной.
Ни тебе, что смогла канатом снять с места Цибебу,
Клавдия, редкая ты жрица богини в зубцах;
Ни тебе, для кого, как Веста огонь свой спросила,
Белое вдруг полотно вновь оживило очаг.
Милой твоей головы, я, Скрибония мать, не срамила.
Что ж ты желала б во мне, кроме судьбы, изменить?
Материнскими я и сограждан слезами хвалима,
Цезаря вздохи моим лучшей защитой костям.
Он вопиет, что была его дочери кровной достойна
Жизнью сестра; и при всех слезы у бога текли.
Все же почетную я себе заслужила одежду,
Не из бесплодного я дома изъята судьбой.
Ты, мой Лепид, и ты, Павл, моя и по смерти отрада,
Даже смежились мои очи на вашей груди.
Дважды видела я на курульном кресле и брата;
Только он консулом стал, тут умчало сестру.
Дочь, ты была рождена образцом цензуры отцовской,
Мне подражая, держись мужа навек одного.
Поддержите свой род потомством; отвязывать рада
Я челнок, чтоб зол не умножала судьба.
Женского высшая в том состоит награда триумфа,
Если свободно молва хвалит потухший костер.
Ныне тебе, как залог я общий, детей поручаю.
Эта забота о них дышит и в пепле моем.
Матери долг исполняй ты, отец; всю мне дорогую
Эту толпу выносить шее придется твоей.
Плачущих станешь ли их целовать, поцелуй и за матерь.
Стал отныне весь дом бременем ныне твоим.
Если сгрустнется тебе, когда их при этом не будет,
Только войдут, обмани, щеки отерши, целуй.
Будет с тебя и ночей, чтоб, Павл, обо мне сокрушаться,
Чтоб в сновидениях ты часто мой лик признавал.
И когда говорить ты начнешь с моим призраком тайно,
Как бы ответов моих каждому слову ты жди.
Если, однако же, дверь переменит напротив постелю,
И на ложе мое мачеха робко придет,
Дети, сносите тогда и хвалите брак вы отцовский,
Вашей пленясь добротой, руку она вам подаст,
И не хвалите вы мать чрезмерно; сравненная с первой,
Примет в обиду себе вольное слово она.
Если ж останется он, мою лишь тень вспоминая,
И настолько еще прах мой он будет ценить,
То научитесь сейчас облегчать грядущую старость,
Чтоб ко вдовцу у забот не было вовсе путей.
Что у меня отнято, пусть к вашим прибавится годам,
Из-за детей моих пусть Павл будет старости рад.
Пусть хорошо ему жить; как мать, я утраты не знала.
Вся ватага пошла следом моих похорон.
Я защитила себя! В слезах вы, свидетели, встаньте,
Как благодарна за жизнь плату земля воздает!
Нравы и в небо введут: пусть буду я стоить заслугой,
Чтобы вознесся мой дух к предкам своим в торжестве[12].
2. Развод, супружеская неверность, безбрачие, конкубинат