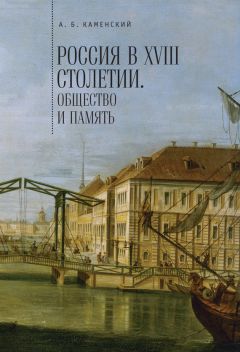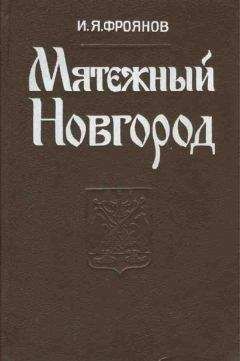Николай Копосов - Хватит убивать кошек!
Впрочем, союз критической философии с позитивизмом, странный на первый взгляд, не был вовсе алогичным. Идея трансцендентального эго вполне совместима с идеалом науки и даже была важнейшим элементом ее обоснования. Это стало, по-видимому, важной составляющей успеха Канта в университетской философии второй половины XIX в. И все же в альянсе кантианства и позитивизма был заложен внутренний конфликт, отчасти вызывавший плодотворное напряжение мысли, отчасти чреватый перверзивными реакциями.
«Кантовская критика познания представляет собой основу, на которой стоят эмпирические и философские науки нашего столетия… [Она] является главной и чаще всего неосознанной составной частью всего нашего научного образования», —
писал немецкий учитель Дюркгейма Вильгельм Вундт[56]. Интерес Дюркгейма — достаточно, впрочем, критический — к немецкой интеллектуальной традиции хорошо известен[57]. Но и во Франции та традиция мысли, в которой воспитывался Дюркгейм, была пропитана кантианством. Речь идет прежде всего о неокритицизме Шарля Ренувье, лидера французских неокантианцев и в определенной мере предшественника Дюркгейма в неформальной роли главного идеолога Третьей республики[58]. Критическая философия была, таким образом, важнейшим элементом интеллектуального багажа Дюркгейма.
В чем именно заключалось и насколько глубоким было влияние Канта на Дюркгейма, вопрос сложный. Очевидно, что центральность для Дюркгейма проблем морали и его постоянное возвращение к проблеме категорий можно связать с кантианской традицией, равно как и конструктивизм, который появляется у Дюркгейма в одном из важнейших для него контекстов — в контексте обоснования проекта социальной науки — уже в «Правилах социологического метода». Разум, по Дюркгейму, определенным образом полагает эмпирическую действительность, превращая ее в предмет той или иной науки. В самом деле, социальные факты могут быть идентифицированы только тогда, когда социолог погрузится в определенное «состояние духа» и займет «определенную мыслительную позицию» по отношению к делам человеческим[59].
Такой подход вполне разделялся немецкими неокантианцами, например Генрихом Риккертом, который писал:
«Эмпирическая действительность… становится природой, коль скоро мы рассматриваем ее таким образом, что при этом имеется в виду общее; она становится историей, коль скоро мы рассматриваем ее таким образом, что при этом имеется в виду частное»[60].
В обоих случаях именно от позиции наблюдателя решающим образом зависит выделение объекта науки. Различие между Дюркгеймом и Риккертом появляется тогда, когда Дюркгейм говорит, что свойственный социологии способ полагать эмпирическую действительность заключается в том, чтобы «рассматривать социальные факты как вещи»[61], т. е. как внешние по отношению к сознанию исследователя объекты познания. Этот тезис непосредственно направлен против антипозитивистской установки немецкого историзма, а эту установку полностью принимала критическая философия истории, настаивавшая на возможности внутреннего понимания социальных явлений.
Однако при всей своей кажущейся однозначности эта фраза — «рассматривать социальные факты как вещи» — скрывает внутренний конфликт, характерный для всей дюркгеймовской социологии и, шире, для социальных наук в целом. Как следует ее понимать: социальные факты суть вещи или социальные факты следует рассматривать, как если бы они были вещами? Комментарии самого Дюркгейма склоняют скорее ко второй интерпретации[62], хотя ему случалось высказываться и в первом смысле[63], и именно так его нередко понимают. По-видимому, прав Ален Дерозьер, утверждая, что позиция Дюркгейма находилась где-то посередине между двумя смыслами[64]. И особенно прав Дерозьер, когда он подчеркивает, что социальные науки до сих пор не могут избавиться от этого внутреннего противоречия между объективистской иллюзией, верой в определенную независимость научных фактов от нашего сознания, и пониманием их как конструктов разума.
Если бы Дюркгейм последовательно исходил из представления о фактах как о конструктах разума, был бы открыт путь к проблематизации тех ментальных механизмов, которые могут быть ответственны за такое конструирование. В самом деле, если считать, что социологи рассматривают социальные факты как вещи, естественно задаться вопросом о том, как именно их опыт вещей сказывается на конструировании ими социальных фактов. Сказать, что «как вещи» значит «извне», далеко не исчерпывает возможностей анализа. Интересное начинается как раз тогда, когда мы задаем вопрос о генезисе этой умственной установки. Здесь открывается широкое поле для размышлений, но Дюркгейм полностью оставляет его в стороне.
Это, однако, не означает, что для него не существует проблемы происхождения когнитивного аппарата исследователей. Многие пассажи, в частности в «Примитивных формах классификации», показывают, что он хорошо понимал относительность «научного разума»:
«Методы научного мышления — это подлинные социальные институты, возникновение которых может описать и объяснить только социология… Наше нынешнее понятие классификации имеет историю… Первые логические категории были социальными категориями… Первобытные классификации… непосредственно примыкают к первым научным классификациям»[65].
Однако анализ Дюркгейма сосредоточен на мысли австралийских аборигенов, хотя он и подчеркивает, что в примитивных классификациях древних коренится источник наших собственных научных классификаций. Но если примитивные — и, следовательно, все вообще — классификации суть проекции на мир форм социальной организации, то вот прекрасный повод деконструировать понятия научного разума (те, например, в которых описывается разделение труда) с точки зрения воспроизводства в них некоторых основополагающих структур мысли. Дюркгейм этого не делает. Понимая социальность всякого, в том числе и научного, разума, он пытается взять это явление непосредственно у его истоков, в мысли дикарей, а не в гораздо более опосредованных формах современной науки. В этом есть свой резон, но кантианец мог бы пойти дальше.
Итак, Дюркгейм понимает, что сознание конструирует объекты познания, но отказывается от изучения сознания исследователей, ограничиваясь изучением аналогичных механизмов на примере субъектов социальной жизни. Это уместно связать с недостаточной последовательностью его критицизма. Любопытно, что и здесь возможна аналогия с немецким неокантианством: критическая философия истории постоянно упиралась в вопрос об объективном значении ценностей (отношение к которым определяло «историчность» исторических фактов), так что в определенной мере колебания Дюркгейма между двумя смыслами его первого правила социологического метода параллельны колебаниям Риккерта и Вебера между субъективностью конструктивизма и объективностью познания. Критическую философию истории этот внутренний конфликт привел к «соскальзыванию в герменевтику», когда конструктивистская гипотеза была понята в том смысле, что социальные факты являются конструктами сознания субъектов социальной жизни. Отчетливее всего это сформулировал Зиммель:
«В этих условиях (т. е. при наличии сознательных субъектов социальной жизни. — Н.К.) вопрос, как возможно общество, имеет совершенно другой методологический смысл, чем вопрос, как возможна природа. Ответом на второй вопрос являются формы познания, посредством которых субъект осуществляет синтез элементов ‘природы’, ответом же на первый являются априорно содержащиеся в самих элементах условия, благодаря которым они (элементы. — Н.К.) фактически соединяются в синтезе ‘общества’… Функция осуществления синтетического единства, которая в случае с природой принадлежит созерцающему субъекту, в случае с обществом переходит к его собственным элементам (т. е. к субъектам социальной жизни. — Н.К.)»[66].
Обнаружение сознательности субъектов социальной жизни позволяет Зиммелю снять проблему структур познающего сознания, точнее говоря, перенести ее в герменевтическую плоскость понимания сознания сознанием. Аналогичную логику мы найдем и у других критических философов истории. Именно в этом контексте приобретает смысл центральное понятие немецкого неокантианства — идея культуры как самопознающего коллективного разума. Что касается Дюркгейма, то этот путь был для него закрыт, поскольку идея внутреннего постижения социальных явлений как раз и была объектом его критики. Однако своим собственным путем он приходит к очень похожей логической конструкции. Функцию немецкой идеи культуры у Дюркгейма выполняет концепция социального.