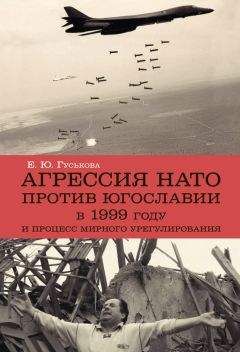Лев Гумилев - Струна истории
Ах, так! Со мной в Москве плохо обошлись?! А пошли вы! И поехал я в Тверь! А если в Твери плохо обошлись, я в Суздаль поеду. А если мне в Суздале нет поблажек – я в Литву поеду!
Видите, совершенно иная реакция на это. Правда, как будто это совершенно разные этносы, но мы-то знаем, что это один этнос.
И весь фокус в том, что я пытаюсь своим оппонентам внушить (и они вообще-то, пожалуй, усвоили, потому они со мной и не спорят), что мы встречаем не явление в статистике, не фиксированное явление в нашей науке, а мы встречаем процесс закономерных явлений. И каждое явление мы должны брать с его прошлым и с перспективой на его будущее.
Будущего нет, мы его не знаем. В настоящий момент, который уходит, реально только прошлое, то есть реально то, что мы изучаем, это только история. Даже наши с вами занятия, они еще не успели начаться, а стали прошлым, потому что, когда я пришел в первый раз и начал вам читать лекцию, – это такое же прошлое, как поход Юлия Цезаря на Галлию. Оно было, оно прошло, оно отложилось, и только это является материалом для наших источников. Вот почему окном в историю является изучение прошлого. А «история, как сказал Карл Маркс, – это единственная наука, которую мы знаем. Соответственно, есть история природы и история людей, и они постоянно между собой взаимодействуют». (Это я своими словами передаю.) И это взаимодействие – основа любой науки.
Итак, хотя мы и будем заниматься большое количество времени этнической историей, тем самым мы историками не становимся, что признали, надо сказать, сами историки, профессор Мавродин,[41] декан истфака, а ныне почтеннейший профессор на истфаке, когда обсуждалась концепция, которую я вам сейчас излагаю, сказал от лица всех историков: «Мы не компетентны разбирать эти вопросы. Географию мы знаем лишь в школьном объеме, ну, где какая река течет и где лес, где степь. А вовсе не в том научном объеме, в котором ее изучают на географическом факультете. Поэтому мы не можем сказать по поводу этой теории (не компетентны) – ни да, ни нет».
И устранился от разговора.
А на вопрос мой: «А надо ли оную концепцию публиковать?» – он сказал: «Вот это речь не мальчика, но мужа. Конечно, надо».
Я тоже с ним согласен.
* * *Итак, взяв историю за подспорье, мы должны определить сферу нашей компетенции и в вопросах географических. География нужна не меньше истории, еще в XVIII в. при Екатерине был умнейший человек – Иван Болтин,[42] написавший большие примечания, двухтомные «Примечания на «Историю России» господина Леклерка» – так они называются. И он там написал, что «у истории без географии встречаются претыкания», – как, впрочем, мы скажем, что у географии без истории тоже встречаются претыкания.
Какая география нам нужна? Математическая география нам мало пользы принесет. Поскольку я сейчас читаю физгеографам, то экономическая география для нас тоже большого значения иметь не будет, – поскольку она изучает очень новый период, период очень недавний, который недостаточен для того, чтобы делать какие-либо суждения. Поясняю этот тезис. Для того чтобы разобраться в каком-то явлении, надо знать его минимально, но достаточно. Излишние детали знать совершенно ни к чему, это гегелевская «дурная бесконечность». Но и недостаток знаний не дает повода сделать правильный вывод.
Ну, вот представим себе, что приехал с Марса какой-то исследователь на Землю и заметил, что существует вот такая у нас серенькая полоска, но дождя нет. Пробыл он на Земле часов пятнадцать, потом сел в свой корабль, улетел на Марс и представил обстоятельный доклад, что на Земле температура такая-то, осадки не выпадают, погода ясная, но не очень. Был бы он прав? Нет. Ему нужно пробыть минимум год, для того чтобы увидеть смену времен года, а желательно несколько десятилетий для того, чтобы увидеть, что бывают зимы крепкие и зимы слабые; бывают лета дождливые и лета, наоборот, знойные; бывают осени ранние и поздние, – тогда он представил бы достаточно сведений.
Вот поэтому мы должны взять историю в том минимальном объеме и географию в том же минимальном, но достаточном объеме, который нам нужен. А для этого что нужно? Ну, физгеографы 4-го курса уже знают, что Земля разнообразна, что на Земле существуют полярные зоны и тропические зоны, сухие и влажные и населяют ее совершенно разные этносы. И вот эту внешнюю сторону Земли, соотношение человека с природой надо знать, как основу для того, чтобы делать дальнейшие выводы.
Так как же связать и можно ли связать эти две области, казалось бы, совершенно различные, – физическую географию, совершенно нам необходимую, и историю событий, необходимую в той же мере?
Вы знаете, что до 60-х гг. нашего времени это было совершенно не возможно, потому этого никто и не сделал. Но после Второй мировой войны появилось одно замечательное открытие, правда, не у нас, а в Америке, но принято оно у нас на вооружение тоже полностью. Это то, что называется системный подход, или системный анализ. Автор его – фон Берталанфи[43] – американец немецкого происхождения. Работал по биологии в Чикагском университете и, как он пишет, сделал по поводу системного анализа доклад, который был совершенно не понят в 1937 г., и он сложил все свои бумаги в ящик стола.
Потом он пошел воевать. К счастью, его не убили, он вернулся к себе в Чикаго, достал свои старые записки, повторил доклад и говорит: «Я нашел уже совершенно другой интеллектуальный уровень».
А что же он предложил? Никто не знает из биологов (а он – биолог), что такое вид. Ну, каждый знает, что есть собака, есть ворона, есть мышь, есть фламинго, есть жук какой-нибудь, есть клоп. Всякий это знает, а определить, что такое вид, – никто не может. И почему животные одного вида и растения одного вида связаны каким-то образом между собой?
Берталанфи предложил определение вида как открытой системы. Система – это такой подход, когда внимание обращается не на персоны, которые ее составляют, скажем, на собак или кошек, а на отношения, которые существуют между собаками или между кошками. Вот, мы с вами здесь, в аудитории, представляем систему, но не потому, что вот здесь сидит определенное количество людей, поименно их пересчитать и меня прибавить, а потому, что у нас существует взаимоотношение: я вам рассказываю, а вы меня слушаете. Его как будто нет, этого взаимоотношения, мы его не можем измерить ни в каких мерах, мы его не можем взвесить, мы не можем определить его градиент, но только ради него мы здесь и существуем. И характер его описать можно.
Вид – открытая система. Что называется системой открытой, что замкнутой? Все знают? Все? – Не все. Знаете, что? Давайте условимся о терминах, потому что сейчас системология шагнула так, что она превратилась в целую науку. Целая наука нам не нужна, нам нужен минимум. Я ее подхватил на вооружение, когда она еще делала первые шаги. Я сделал очередной шаг и остановился, потому что дальше в дебри лезть не стоит, – это уже бессмысленно.
Есть системы четырех типов. Прежде всего, их можно разделить на открытые и закрытые, на жесткие и корпускулярные, или, как их иначе называют, – дискретные. В чем смысл?
Открытая система – это, допустим, наша планета Земля, которая все время получает солнечные лучи, благодаря им производит фотосинтез и часть энергии выбрасывает в космос. Открытая система – это вид, который получает запас энергии в виде пищи, который поглощают животные данного вида. Они эту пищу добывают, размножаются, дают потомство, умирают, отдают свое тело матушке-Земле. Это открытая система, которая, все время получая энергию извне, обновляется.
Закрытая система – это, например, печка, она стоит в комнате. Холодно, в ней дрова. Вы затапливаете печку, дров больше не подбрасываете, закрыли. Дрова сгорают, печка разгорается, в комнате температура поднимается за счет этого, уравнивается с печкой, потом они вместе остывают. То есть запас энергии – в виде дров – получен единожды, после чего процесс кончается. Это система замкнутая.
Теперь второй характер деления. Значит, жесткая система – это хорошо отлаженная машина, где нет ни одной лишней детали. Она работает только тогда, когда все винтики на месте, когда она получает достаточное количество горючего или, там, наоборот, она стоит и служит, как микроскоп, каким-то целям. Но в ней нет ничего лишнего.
В чистом виде жесткой системы никогда не может быть, потому что машину все-таки надо покрасить. А можно покрасить ее в синюю краску, желтую или зеленую. Это будут какие-то мелкие детали, отличия, не имеющие значения. Но, в идеале, жесткая система должна отличаться полной слаженностью частей. Она очень эффективно работает, но при поломке одной детали она останавливается и полностью выходит из строя.