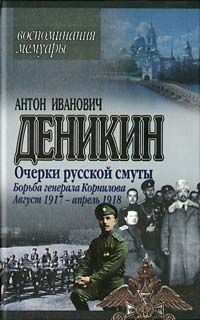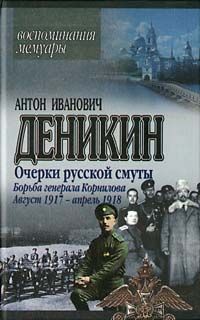Роман Абинякин - Офицерский корпус Добровольческой армии: Социальный состав, мировоззрение 1917-1920 гг
Полным подтверждением стал июльский контрудар немцев. Прорыв фронта 11-й армии вызвал панику, рост самострелов (до трети всех ранений) и в итоге форменное бегство. Уговоры не помогали, а для применения силы у генералов были связаны руки.
Сильные укрепления на реке Серет войска бросили без боя; в итоге 7-я и 8-я армии, удержавшие собственные рубежи, оказались под угрозой окружения, и поэтому командование вынуждено было форсированными маршами выводить их из-под удара. Таким образом, совершенно неожиданно даже для германских стратегов местная контратака силами всего трех дивизий превратилась в целую операцию.[83]
Трагизм ситуации состоял в подавляющем, пятикратном превосходстве русских сил над немецкими. Более точные цифры известны по одному из корпусов: по данным его командира, приведенным Деникиным, «на 19-верстном фронте… было 184 батальона против 29 вражеских, 900 орудий против 300 немецких; 138 батальонов введены были в бой против перволинейных 17 немецких».[84] И при этом военачальники отмечали фактическое «отсутствие пехоты», то есть невозможность ее использования. Утверждение традиционной историографии о материально-технической слабости России во время июньского наступления часто сталкивается с воспоминаниями очевидцев о достаточном оснащении вооружением. Отметим в скобках, что падение военного производства вследствие повышения политической активности рабочих стало особо сказываться лишь в августе (по орудиям и снарядам на 60 %, по авиатехнике на 80 % и т. д.[85]: одной из причин потери Риги стало как раз отсутствие снарядов.[86]
К военному поражению добавлялись и явно преступные явления. Части, оставившие позиции при отступлении, начинали погромы, мародерство и насилия в попутных населенных пунктах. Правда, командиры, решавшиеся их пресекать, мгновенно добивались успеха;[87] ввиду того, что такое происходило редко, неповиновение быстро перерастало в бунты, когда целые части, выйдя в резерв, окапывались и выставляли пулеметы. Против них приходилось применять артиллерию, казаков и регулярную кавалерию, не столь подверженные разложению: «В тылу разыгрывались, таким образом, междоусобные маневры и даже маленькие бои с боевыми патронами».[88] Иной раз укрепившихся в лесу мятежников удавалось сломить лишь шрапнельными очередями (однако, направленными не на поражение).[89] Чаще же для приведения в повиновение соседние части пугались применением их друг против друга, приписывая это решению комитета, но в исполнение угрозы не приводились.[90] Тем самым лишь подчеркивалась беспомощность власти, и эффект достигался прямо противоположный.
Попытки суда над зачинщиками, среди которых попадались и офицеры, наталкивались на терроризирующее давление солдат и завершались оправданием. Даже в случае назначения наказания «осужденные до окончания войны возвращались в строй».[91] Измененная после Февраля военно-судебная система переставала действовать. Так сбывалось пророчество Алексеева; общественное мнение качнулось вправо: если раньше звучали только слова о моральном и дисциплинарном разложении, то теперь страна увидела их воочию и испытала на себе.
Стереотипное утверждение зависимости событий 3–5 июля в Петрограде (так называемого Июльского кризиса) от германского контрудара и возмущения поражением русской армии более чем странно. Произойдя непосредственно перед контрнаступлением, они не могли быть его следствием и небезосновательно расценивались частью современников как способствующие ему. Дестабилизация положения в столице в случае удачи антиправительственного выступления могла нарушить координацию военных действий и стратегическое руководство в целом. Поэтому правительство спешно ввело в город фронтовую 45-ю пехотную дивизию, отлично справившуюся с беспорядками[92] и подтвердившую весенние расчеты Крымова.
Восьмого июля командующий 8-й армией Корнилов заявил о необходимости применения «исключительных мер вплоть до введения смертной казни на театре военных действий»; в противном случае всю ответственность он возлагал «на тех, которые словами думают править на полях, где царит смерть и позор предательства, малодушия и себялюбия».[93] Составленное в резких и патетических тонах обращение содержало прозрачное и, по сути, незаконное давление на кабинет. Брусилов, ссылаясь на перспективу гибели «свободы, завоеванной народом», полностью поддержал Корнилова.[94] Причинами явились как чисто стратегические соображения, так и намек на вызревшее активное недовольство правительством со стороны патриотического генералитета, способное толкнуть к самостоятельным шагам.
О том, насколько Временное правительство было далеко от реальности, можно судить по хлопотам Керенского, желавшего добиться от I съезда Советов выражения его отношения к наступлению, 8 июля,[95] через день после контрудара противника. Отрезвляюще подействовала секретная — «только военмину» — телеграмма комиссара Юго-Западного фронта Б. В. Савинкова от того же числа:«… дисциплину следует ввести, не останавливаясь ни перед какими мерами».[96] После колебаний, недопустимо долгих при учете обстановки, 11 июля Керенский приказал Корнилову «остановить отступление во что бы то ни стало всеми мерами, которые Вы признаете нужными».[97] Снова военный министр, фактически разрешая введение смертной казни, избегал прямой формулировки, перекладывая ответственность на генерала, что позже дало основания даже заинтересованной стороне — Деникину — утверждать «самочинность» решения Корнилова.
Новое совещание в Ставке 16 июля, когда эмоционально и обвиняюще выступал Деникин, поддержанный остальными генералами, показало взаимное непонимание правительства и военачальников. Деятельность последних ниже рассматривается специально; корниловское выступление не затрагивается намеренно.
В августе-сентябре начался перевод на фронт ряда запасных частей. После первых же поступлений командование, ранее стремившееся к их получению, стало раскаиваться. Тыловые войска уже характеризовались; приходя на позиции, они быстро и разлагающе влияли на окружающие части. Командир 14-го армейского корпуса (Северный фронт) генерал-лейтенант барон А. П. Будберг отмечал: все «во власти пришедших из запасных полков пополнений. Как будто нарочно держали в тылу орды самой отборной хулиганщины, распустили их морально и служебно до последних пределов, научили не исполнять никаких приказаний, грабить, насиловать и убивать».[98] Некоторые части, сохранившие определенный порядок, оказались буквально погубленными новоприбывшими.
Теряющие «подобие не только воинское, но и человеческое» солдаты порой даже при движении не на фронт, а в резерв разоряли и громили от одного до одиннадцати уездов. Как вспоминал очевидец, «солдаты ловили кур, разбирали на дрова заборы и форменным образом уничтожали встречавшиеся на пути фруктовые сады. При этом совершенно не принималось во внимание, кому этот сад принадлежал: ненавистному буржую, помещику, или бедному крестьянину»[99] — классовой направленности в безобразиях не прослеживалось. Обрисовывая положение, председатель Союза казачьих войск войсковой старшина А. И. Дутов упоминал продажу воинскими чинами обмундирования и оружия в количествах, достаточных для оснащения номерной армии; общее число дезертиров превысило 2 млн. человек.[100] Вопиющим и достаточно распространенным явлением стала продажа оружия противнику: «за орудийную батарею немцы платили 2–3 тыс. руб., за пулемет — 100 руб, но потом цены быстро сбили [курсив наш — Р.А.] до 25 р. за орудие и 20 р. за пулемет; двуколка с лошадью стоила 15 р. Этот оригинальный способ пополнения немецкого вооружения очень нравился и нашим, и немцам, хотя и по разным причинам»,[101]- с горечью вспоминал один из офицеров, верно оценивший это как агонию армии и государства. О выполнении боевых задач не было и речи; впрочем иной раз целая дивизия атаковала «в составе только 70 офицеров, без единого солдата, наступающих под огнем на окопы хохотавших австрийцев».[102] И здесь виден отчетливый прообраз отчаянных атак офицерских рот в недалеком будущем.
Довольно неуклюжей оказалась попытка последнего комиссара при Верховном Главнокомандующем В. Б. Станкевича стимулировать активность войск крупными денежными наградами: «тысячу рублей за одного пленного, пятьсот рублей за винтовку противника, тысячу рублей за пулемет».[103] (И для сравнения: среднее офицерское жалованье обер-офицера 200 руб., товарища министра 1250 руб. в месяц.) Ее появление само по себе очень красноречиво и комментариев не требует; к тому же реализована она не была.