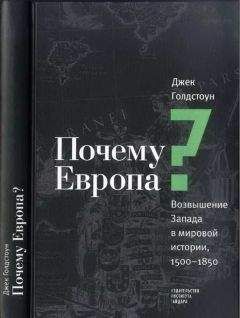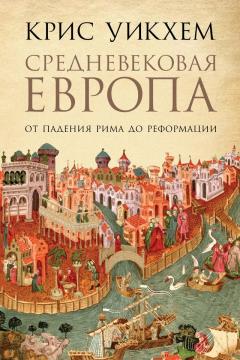Гельмут Кенигсбергер - Средневековая Европа. 400-1500 годы
Вряд ли можно представить себе, чтобы европейская элита могла достичь столь выдающегося динамизма в экономической жизни, если бы другие параметры ее существования не были столь же динамичны. Элиты существовали во всех высокоорганизованных обществах и, по определению, должны были эффективно действовать в рамках созданных ими традиций. Но не все они обладали одинаковым динамизмом. Здесь мы возвращаемся к проблеме, сформулированной в начале введения: почему европейцы действовали так, как они действовали? В чем именно заключался этот образ действия? Какие преимущества перед другими обществами он им давал? Мы должны еще раз подчеркнуть – нельзя ставить вопрос так: почему европейская цивилизация оказалась лучше других. У нас нет критериев, позволяющих определить, что «лучше», а что «хуже».
Тем не менее многие образованные европейцы в эпоху Средних веков, да и в наше время, пытались рассуждать именно так. Средневековые люди считали, что их собственная цивилизация почти во всем уступает прежней, греко-римской, и направляли все свои помыслы к тому, чтобы вернуть этот «золотой» век. У них был, таким образом, серьезнейший стимул к постоянному совершенствованию во всех областях культуры, поскольку именно в сфере культуры сохранилась основная масса сведений о древних: как в материальных памятниках, так и в рукописных, в литературе и праве. В отдельные эпохи стремление возродить Античность становилось особенно острым, и в европейской культурной жизни наступали периоды «ренессанса». В такие периоды наиболее ярко проявлялась вся многополюсность стремлений, противоречивое переплетение регионализма и «универсализма», сами понятия которых возникли сравнительно поздно.
Полицентризм европейской цивилизации был явлением не только географическим или языковым; в неменьшей степени ему свойственны интеллектуальное и эмоциональное измерение. Отделение церкви от государства привело к столкновению интересов и раскололо само представление о лояльности. Обе эти институции доказали свою творческую эффективность и вместе с тем стали источником постоянного дискомфорта для своих членов. Действительно, кто мог с большим правом притязать на лояльность подданных – духовная или светская власть? В Средние века невозможно было, конечно, желать полной победы одной силы и полного поражения другой; более того, подобная ситуация была абсолютно непредставима. Поэтому две могущественные силы оказались перед необходимостью обосновывать свои притязания рационально. Рациональное мышление ценится во всех высокоорганизованных обществах. Но здесь мы имеем дело с дополнительным стимулом, неизвестным в других обществах; он наложил неизбежный отпечаток на все формы творческого мышления.
В начале Нового времени дуализм церкви и государства постепенно трансформировался в еще более фундаментальный дуализм религиозного и светского мышления, породивший необычайный динамизм: он позволил музыке, искусству, естественным наукам и политическим теориям освободиться от прежнего средневекового статуса «служанок теологии», а ученым и людям искусства – заявить свои права на чисто рациональную или чисто эмоциональную позицию.
Последствия этого процесса для европейского общества оказались огромны: они позволяют объяснить как непреходящую динамичность европейского развития, так и то смешанное чувство восхищения и неприятия, с которым европейские ценности встречались в неевропейских обществах. Особенным драматизмом окрашено развитие политической мысли. Люди Средневековья рассматривали политическую мысль (по аналогии со всеми прочими аспектами человеческой жизни) как составную часть мысли моральной и религиозной. Однако со времен Макиавелли, в начале XVI в., чисто рациональные и светские теории все больше вытесняли моральную и религиозную проблематики. Вместе с тем политика и религия долгое время находились в исключительной компетенции правителей, их советников и философов. Лишь во второй половине XVIII в., в первую очередь благодаря сочинениям Руссо, политическая мысль, наряду со светским содержанием, обрела общедоступность, провоцируя общественные эмоции, которые не уступали по силе прежним, религиозным: именно здесь был заключен источник политической идеологии. Со времен Французской революции вплоть до нашего времени идеология неизменно выступала как самый влиятельный (и вновь исключительно динамичный) фактор не только европейской, но и мировой истории. Крупнейшие идеологии продемонстрировали почти беспредельную гибкость, приспосабливаясь к местным традициям; в некоторых современных обществах они проявили поразительную способность к симбиозу с традиционными религиозными верованиями – явление, которое не удивило бы наших средневековых предков. Идеологии получили свое выражение и в ряде новых институций, таких, как политические партии.
Пределы рационализмаХотя рационализм, то есть систематическая аппеляция к разуму при анализе и решении проблем, и оказался наиболее эффективным элементом европейской традиции, ему свойственна известная ограниченность. В «Вакханках» греческого драматурга Еврипида (ок. 484–406 гг. до н. э.) показано, как люди, пренебрегавшие иррациональной, эмоциональной стороной своей природы, порождают ситуации, трагические для себя и для других. Со второй половины XVIII в. романтизм, новое течение в европейской культуре, стремился использовать нерациональные способности и глубинные эмоции для создания новых приемов художественного, литературного и музыкального выражения. Романтикам принадлежат многие шедевры европейского гения в живописи, литературе и музыке; в политике они тоже искали человеческое измерение. Однако романтические нападки на рационализм имели и оборотную сторону: они дали выход многим темным инстинктам человеческой натуры – трайбализму[15] и сектантскому фанатизму, нетерпимости и торжеству насилия. Конечно, эти инстинкты всегда присутствовали в европейском обществе (как и во всяком другом). По сути дела, история любого общества представляла собой серию попыток отыскать приемлемый баланс между разумом, традицией и эмоциями. Эта задача все еще стоит и перед нами.
Тенденции и перспективы современностиНачиная с XVIII в. многие историки Европы (одни – в надежде, другие – в страхе) занимались предсказанием развития событий. Одни создавали теории прогресса, другие – упадка. Но наряду с общими теориями появилось (особенно за последние 25 лет) немало эмпирических, более скромных по задачам исследований, посвященных локальному прогнозированию. Наиболее важными направлениями, где практикуется различного рода прогнозирование, являются: такая вечная тема, как демография, исследующая, в частности, иммигрантские популяции (разнородные в культурном отношении); безработица, катастрофически выросшая с начала 70-х годов XX в., особенно среди молодежи; структура и динамика промышленного производства – основы процветания Европы; сельское хозяйство, доходы от которого до сих пор составляют главную приходную статью бюджетов стран Европейского экономического сообщества и, наконец, изменения под влиянием как социального развития, так и новейших технологий в сферах трудовой деятельности и досуга.
В свете развития Европейского экономического сообщества, основанного на договоре, подписанном в Риме, старейшей европейской столице, все большее число историков стремится переписать новейшую историю Европы в общеевропейских, а не в узконациональных терминах. Эта задача стала еще более насущной после 1989 г., когда коммунистические режимы Восточной Европы пали или (как в Советском Союзе) претерпели радикальное изменение, две части Германии объединились, а почти все европейские государства к западу от Советского Союза стремятся вступить в переименованное Европейское сообщество. В 1991 г. (когда пишутся эти строки) стремление к особому европейскому единству продолжает заявлять о себе с неизменной силой. В то же самое время сохраняются проблемы национального, регионального и этнического характера, оставляя открытым вопрос будущей политической организации Европы и ее отношений с Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки.
История Европы, написанная в 80-х годах XX в., вряд ли может иметь законченный вид. Каждое из трех последних десятилетий знаменательно особыми, отличительными чертами, причем в последнем доминировали экономические проблемы. При оценке происходящих в различных странах событий вновь возникает нерешенная проблема соотношения частей и целого. Поэтому предлагаемые вниманию читателя книги[16] скорее ставят вопросы, чем дают на них ответы, и скорее открывают историю для обсуждения, чем закрывают ее последнюю страницу. Вряд ли можно дать окончательный ответ хоть на один вопрос – и это обстоятельство следует считать, вероятно, самой существенной особенностью изучения европейской истории.