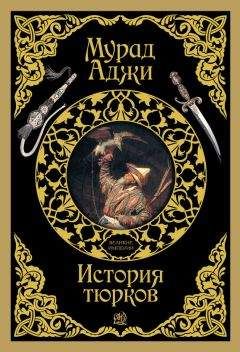Михаил Пселл - Хронография
XII. Потом царь очень раскаивался в своих действиях, терзался душой от пережитых огорчений, резко переменился и обратился к образу жизни, для него непривычному. Надеясь попечением о казне восстановить в прежних размерах все утраченное, он походил больше на сборщика налогов, нежели императора, ворошил и исследовал дела еще Евклидовых времен[11] и строго взыскивал с детей долги их давно забытых отцов, споры тяжущихся сторон не разбирал, в защиту ни одной из них не высказывался и приговоры выносил не иначе, как в свою пользу. В результате народ весь разделился на две части: более достойные изображали себя людьми простодушными и далекими от государственных дел – их император и в грош не ставил, те же, кто был готов на все и искал корысти в чужой беде, своей испорченностью только подбрасывали хворост в костер, разожженный самодержцем. И все кругом наполнилось смятением и беспорядком; самое же страшное, что, хотя множество людей обиралось догола, казна от этих поборов ничего не получала, поток же денег устремился в другом направлении. Расскажу подробней, куда именно.
XIII. Этот царь старался казаться благочестивым. Он и в действительности пекся о божественном, но притворство было в нем сильнее истины, и казаться значило для него больше, чем быть. Поэтому он весьма усердно занимался божественными вопросами, исследовал причины и смысл, познать которые наукой невозможно, если не обратиться к Уму и непосредственно от него не получить объяснение сокровенного. Он же не слишком много философствовал о здешнем мире, не обсудил этих вопросов с философами (если, конечно, им можно незаконно присвоить это наименование за знакомство с начатками аристотелевского учения), а брался размышлять о вещах глубокомысленных и, как сказал один из наших мудрецов, постижимых для одного лишь Ума[12].
XIV. Таков был первый вид его благочестия. Кроме того, завидуя знаменитому Соломону, строителю прославленного храма[13], и ревнуя к славе самодержца Юстиниана, соорудившего великую церковь, носящую имя несказанной божественной мудрости[14], он и сам принялся воздвигать храм божьей матери, но при этом сделал много плохого и благочестивая цель стала поводом для дурных дел и многих вопиющих несправедливостей. Расходы непрерывно росли, и денег каждодневно собиралось еще больше, чем нужно было для строительства. Царь считал своим злейшим врагом всякого, пытавшегося соблюсти меру, и немедленно причислял к ближайшим друзьям тех, кто изобретал всевозможные излишества. Раскапывались целые горы, горнорудное дело ценилось выше самой философии, одни камни обкалывались, другие полировались, третьи покрывались резьбой, а мастера этого дела почитались не меньше Фидия, Полигнота и Зевксида[15], а ему все было мало для сооружения храма! Двери царской сокровищницы распахнулись настежь, золото потекло рекой, но источники истощались, а строительство так и не прекращалось, ибо постройки разбирались одна за другой и, исчезнув, возрождались вновь, то размерами побольше, то с украшениями поизысканнее. Как впадающие в море реки еще до впадения теряют по пути большую часть воды, так и стекавшиеся туда деньги до срока растрачивались и исчезали.
XV. Человек вроде бы весьма благочестивый, царь с самого начала поступал дурно, пуская на ветер для сооружения храма деньги, собранные налогами. Прекрасно, как говорит песнопевец, любить благолепие дома господня и обитель славы его, и лучше много раз подвергнуться в нем презрению, нежели вкусить счастья из иного источника[16]. Ибо прекрасно это, и кто из возревновавших господа и горящих его огнем скажет что вопреки? Но пусть не оскверняется это благочестивое намерение, не свершается множество несправедливостей, не приходит в смятение общее дело и не губится тело государства. Ведь тот, кто отверг цену блудницы и, как от пса, презрел жертву преступника[17], не вошел бы в роскошный и великолепный дом, ради которого было содеяно много зла. Чем могут споспешествовать божественному благочестию соразмерность стен, окружность колонн, развешанные ткани, роскошные приношения и прочее великолепие, если для этого достаточно ума в божественных одеяниях, души, окропленной духовным пурпуром, соразмерности дел, благочиния мысли и, того более, простоты духа, из коих внутри нас сооружается иной храм, любезный и приятный господу? Роман же умел мудрствовать на словах, знал силлогизмы, сориты и утиды[18], но на деле вел себя не как мудрец. Если уж нельзя было не злоупотреблять внешними украшениями, то следовало позаботиться о дворце, украшать акрополь, восстановить разрушенное, пополнить казну и деньги предназначить на военные нужды, а он этим пренебрег и ради того, чтобы его храм превзошел красотой прочие, погубил все остальное. Если позволено так сказать, он бредил храмом и готов был им любоваться, не отрывая глаз. Поэтому он и придал ему вид царского дворца, установил троны, украсил скипетрами, развесил пурпурные ткани и сам проводил там большую часть года, гордясь и восхищаясь красотой здания. Желая почтить богоматерь самым красивым именем, он, сам того не заметив, дал церкви наименование, скорей подходящее смертной женщине, ибо слово «перивлепт» означает «восхитительная»[19].
XVI. Потом к зданию добавили еще одну пристройку, превратили храм в прибежище для монахов, и это стало источником новых несправедливостей и излишеств, пуще прежних. Роман не почерпнул столь много из арифметики или геометрии, чтобы ограничить чем-либо величину или число, подобно геометрам, которые ограничивают множество[20], но, словно рассматривая здание как бесконечную величину, до бесконечности увеличивал и число монахов. Отсюда и другая пропорция: толпы монахов относились к величине монастыря так, как поступающие припасы к толпам монахов. Поэтому искали новую вселенную, разведывали море за Геракловыми столбами[21]: первая должна была доставить спелые плоды, второе – огромных, размером с китов, рыб. Полагая, видимо, ложным утверждение Анаксагора о беспредельности миров, он отсек большую часть нашего материка и отдал его храму. И вот величина следовала за величиной, толпа за толпой, всякое новое излишество превосходило предыдущее, и не было ничего, что бы остановило или положило предел этой расточительности. Роман, видимо, так и не перестал бы громоздить одно на другое, если бы жизни его не был положен конец.
XVII. Рассказывают и о причине, по которой оборвалась его жизнь. Перед тем как сообщить о ней, скажу следующее. Ко всему прочему этот царь оказался неспособен к общению с женой. То ли он с самого начала стремился к целомудренной жизни, то ли, как утверждают многие, предался любовным утехам с другими женщинами, во всяком случае. Роман пренебрегал царицей, от соитий с нею воздерживался и питал отвращение ко всякому общению с Зоей. А она возненавидела Романа из-за оскорбления, нанесенного в ее лице царскому роду, и особенно из-за страсти к соитию, которую – вопреки возрасту – поддерживала в ней изнеженная жизнь во дворце.
Представление во дворец Михаила его братом
XVIII. Это только вступление к рассказу – события же развивались следующим образом. У Романа еще до восшествия на престол среди прочих находился в услужении некий евнух, происхождения простого и низкого, но характера весьма деятельного[22]. Он был еще приближенным самодержца Василия, который доверял ему тайны, и хотя не возводил ни на какие высшие должности, питал к нему искреннее расположение. У него был брат, до начала царствования Романа еще мальчик, затем юноша во цвете лет с пробивающейся бородой. Был он и телом прекрасно сложен, и с лицом совершенной красоты, сверкающими глазами и воистину розоволатый. Этого юношу брат представил императору – такова была царская воля, – в то время как тот восседал вместе с императрицей. Когда оба они вошли, император взглянул на юношу, задал несколько коротких вопросов и велел выйти, но остаться во дворце. Что же до его супруги, то пламя, столь же яркое, как и красота юноши, ослепило ее глаза, и покоренная царица сразу же впитала в себя от этого сокровенного соития семя любви к нему. Однако до поры до времени ее любовь оставалась для всех тайной.
XIX. Не в силах ни отнестись к своей страсти по-философски, ни обуздать ее, она часто заговаривала с евнухом, которым раньше пренебрегала и, начиная издалека, как бы мимоходом заводила речь о его брате, внушала тому надежды и велела посещать ее, когда он только пожелает. Юноша же, еще не догадываясь о ее сокровенных желаниях, счел это признаком благоволения и, повинуясь приказу, стал приходить к ней со смиренным и робким видом. Однако стыдливость озаряла его еще большей красотой, красила в пурпур и окружала багряным сиянием. Императрица старалась освободить юношу от страха, улыбалась, распрямляла на лбу грозные складки и, как бы намекая на любовь, побуждала к решительности. Когда же она дала возлюбленному явные доказательства любви, то и он стал отвечать ей тем же, сначала не очень смело, а затем все более откровенно и повел себя, как настоящий влюбленный: внезапно обнимал и целовал царицу, гладил ее руки и шею, действуя так, как его вышколил брат. Царица все сильнее льнула к юноше и отвечала на его любовные ласки, а он не испытывал к престарелой императрице никакого влечения и только зарился на царское достоинство, ради которого был готов на что угодно.