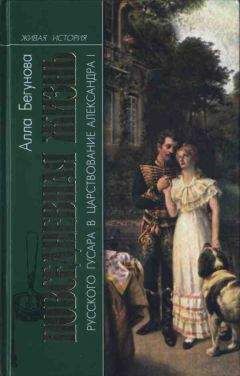Елена Мельникова - Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды
На протяжении IX в. освоение восточноевропейского отрезка пути с выходом на Волгу фиксируется возникновением торгово-ремесленных поселений и военных стоянок, где повсеместно в большем или меньшем количестве представлен скандинавский этнический компонент[57]. Практически все известные ныне поселения Северо-Запада IX в. располагаются на реках и озерах, образовывавших магистраль, или на ее ответвлениях; таковы Ладога, «Рюриково» Городище, Крутик у Белоозера, Сарское городище, позднее – древнейшие поселения в Пскове, Холопий городок на Волхове, Петровское, Тимерево и др.
Чрезвычайно разветвленная речная сеть, допускавшая множество маршрутов на отдельных участках пути, способствовала формированию вокруг него особенно обширной зоны, захватывавшей земли вдоль Меты и Молоти, Свири и Паши с выходами непосредственно на Верхнюю Волгу или на Белое озеро. Также разнообразны были и пути к западу от Ильменя: по Шел они, Великой, Чудскому озеру и др. Топография отдельных находок скандинавских древностей и изолированных комплексов на Северо-Западе согласуется с общим очертанием этой зоны.
Ее важной особенностью было то, что она включала территории ряда племен разной этнической принадлежности: финских (чуди, мери, веси) и славянских (кривичи, словене). Древнейшие торгово-ремесленные поселения вдоль этого пути располагаются на земле каждого из племен: Старая Ладога – в земле чуди, Псков – кривичей, «Рюриково» Городище – словен, Крутик – веси, Сарское городище – мери – и несут неоспоримые следы присутствия местного, финского или славянского, наряду со скандинавским, населения. Отмечая соотнесенность поселений с племенными территориями, исследователи в то же время не склонны считать их племенными центрами: на них отсутствуют признаки, характерные для последних, в частности, культовые комплексы, связанные с сакральными функциями племенных центров[58].
Эти особенности ранних поселений на Балтийско-Волжском пути – их расположение, указывающее на связь как с самим путем, так и с племенными территориями; полиэтничность; специфический характер, – как представляется, отражают отмеченные выше процессы, связанные с функционированием Балтийско-Волжского пути. Они возникают как стоянки для купцов и места торговли и обмена, которые притягивали к себе местную знать, заставляя ее сосредоточиваться в этих пунктах. Тем более что природные условия региона – наличие пушного зверя и ценных продуктов лесных промыслов, меда и воска – предоставляли племенному нобилитету реальную возможность участвовать в торговле.
Даже достаточно скромное по объему включение в крупномасштабную международную торговлю и перераспределение ценностей служило мощным источником обогащения знати и создавало условия для ее дальнейшего отделения от племени. Потребность в местных товарах для их реализации в торговле усиливала роль даней: изъятие избыточного продукта требовалось теперь в количестве много большем, чем было необходимо для внутреннего потребления. Увеличение собираемых даней влекло за собой усложнение потестарных структур в регионе и соответственно усиление центральной власти.
Реконструируемые социально-политические процессы происходили в до-письменную эпоху, для которой основным источником являются археологические данные, в целом малоинформативные в этом аспекте. Однако предположение о кардинальной роли для общественного развития племен, населявших зону крупномасштабной дальней торговли на восточноевропейском отрезке, как представляется, находит подтверждение в двух группах письменных источников. Во-первых, в скудных сообщениях древнерусских летописей, касающихся событий второй половины IX в. (в основном в сказании о призвании варягов). Во-вторых, в более подробных известиях в восходящих к источникам IX в. рассказах арабских писателей X в., в первую очередь в повествовании об «острове» (стране) русов у Ибн Русте (первая половина X в.) и дополненном по другим источникам переложении того же рассказа в «Худуд ал-Алам» (ок. 982 г.). Большинство исследователей традиционно считают, что «остров» (страну) русов следует локализовать в Северо-Западной Руси, точнее в северной части Балтийско-Волжского пути, в районе оз. Ильмень[59].
Как Ибн Русте и автор «Худуд ал-Алам», так и другие арабские авторы X в., повествующие о русах (в сообщении о трех видах русов – ал-Истахри и Ибн Хаукаль; о купцах-русах – ал-Факих и др.), обращают основное внимание на торговую деятельность населения этого региона.
Разумеется, именно она представляла наибольший интерес для арабского мира и потому должна была лучше всего отразиться в восточных источниках. Однако практически все писатели, связанные и не связанные общей повествовательной традицией, отдают ей бесспорный приоритет над всеми другими занятиями. «И нет у них недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен. Единственное их занятие торговля соболями, белками и прочими мехами, которые они продают покупателям», – пишет Ибн Русте[60]. Основными предметами торговли называются пушнина и рабы.
Торговую деятельность русов арабские авторы ставят в прямую связь с эксплуатацией местного населения, осуществляемой несколькими путями. Это набеги, грабеж и захват жителей в плен для продажи в качестве рабов (Ибн Русте и др.): «Они (русы) нападают на славян… забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там продают»[61]. Это насильственное изъятие продуктов потребления: «Всегда 100–200 из них русов ходят к славянам и насильно берут с них на свое содержание» (Гардизи, ок. 920 г.)[62]. Наконец, это более упорядоченный сбор даней в натуральной форме путем объезда правителем подчиненной ему территории, что прямо сопоставляется с полюдьем[63]. Отголоски сбора даней в северо-западном регионе присутствуют также в сказании о призвании варягов. Взимание даней с местного населения приписывается в нем скандинавам-варягам. Однако изображение даннических отношений, вероятно, является попыткой осмыслить связи между «находниками»-варягами и местным населением как отношения господства-подчинения и описать их в категориях, близких летописцу: внешней формой проявления зависимости была выплата дани, о чем неоднократно писал составитель ПВЛ. В действительности же, сколько-нибудь регулярный сбор дани варягами представляется совершенно невозможным: он требовал бы существования достаточно разветвленного аппарата управления. И в более освоенных скандинавами районах Восточной Балтики «дани» представляли собой нерегулярные откупы от грабежей, а не постоянную подать. Несравненно более вероятно, что сбор дани осуществлялся местной племенной знатью внутри каждого из племен, часть же этой дани поступала в торговлю по Балтийско-Волжскому пути, осуществляемую в значительной степени скандинавами.
Наряду с общей констатацией значения торговли для Северо-Запада Восточной Европы, арабские авторы уделяют значительное внимание ее организации, указывая на регулярность торговли и стабильность торговых путей[64]. Более того, Ибн Русте и автор «Худуд ал-Алам» отмечают упорядоченные формы взаимоотношений торговцев с местной властью: это и выплата правителю «страны русов» десятины от торговой прибыли (ср., однако, рассказы Ибн Хордадбеха о десятине, выплачиваемой купцами русов царю Рума – Византии и правителю хазар), и обеспечение защиты купцов, которая осуществляется в соответствии с определенными правовыми нормами: по Гардизи, за оскорбление чужеземца (купца) обидчик обязан отдать потерпевшему половину своего имущества[65]. Если эти известия не являются переносом восточных реалий на почву «острова» русов и отражают действительное положение дел, то это – важное свидетельство развитых торговых отношений, в которых активное участие принимает центральная власть и которые уже оформлены правовыми нормами. Однако косвенным подтверждением правовой регламентации общественной жизни в регионе, и не только в сфере торговли, видимо, может служить само заключение ряда-договора с варягами; более того, отразившиеся в сказании о призвании условия ряда[66] указывают на высокий уровень правовой деятельности, охватывающей различные сферы жизни.
Таким образом, в жизни Северо-Запада Восточной Европы IX в. с отчетливостью вырисовывается главенствующая и организующая роль торговли по Балтийско-Волжскому пути. Благодаря ей возникают первые предгородские поселения, усиливаются процессы социальной и имущественной дифференциации, укрепляются потестарные структуры. Наконец, благодаря ей консолидируется обширная территория, по которой проходит магистраль и на которой к середине IX в. возникает предгосударственное образование.
(Впервые опубликовано: ДГ. 1992–1993 гг. М., 1995. С. 16–33)