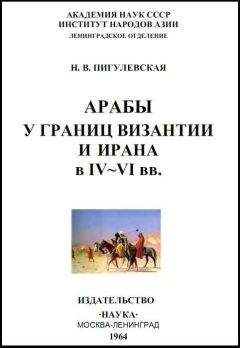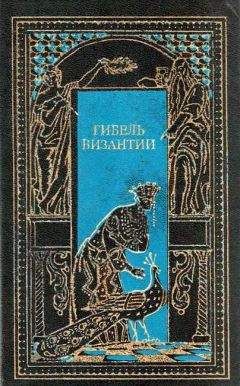Н. Пруцков - Древнерусская литература. Литература XVIII века
Отношение составителей «Степенной книги» к историческому материалу обнаруживалось не только в видоизменении отдельных сюжетных ситуаций, но и в создании новых рассказов, отсутствовавших в летописных источниках. Рассказы эти, связанные с литературной агиографической тенденцией, обладали часто четким сюжетным построением, обычным для житийной литературы. Такой характер имело, например, «Житие святыя… и в премудрости пресловущия великая княгини Ольги», помещенное в «Степенной книге» в самом начале изложения — в качестве вступительного «Сказания». Автор этого первого рассказа «Степенной» явно старался сочетать высокую поучительность рассказа с занимательностью. Используя легенды, неизвестные письменности предшествующих веков и восходящие, очевидно, к фольклору, он начал повествование со сцены первого знакомства героини, происходившей «от рода же не княжеска, ни вельможеска, но от простых людей», с юным князем Игорем. Игорь, тешившийся «некими ловитвами» (охотой) в «Псковской области», хотел переправиться через реку. Увидев лодку на реке, он призвал лодочника к берегу, сел в ладью и, уже отплыв, убедился, что этот лодочник — девица, но «доброзрачна и мужественна»; «и разгореся на ню и некия глаголы глумлением претворяше к ней». Однако «благоразумные словеса» Ольги заставили Игоря отложить «юношеское мудрование свое»; когда же ему стали подыскивать невесту, «яко же есть обычай государству и царской власти», Игорь вспомнил об Ольге, послал за ней, «и тако сочьтана бысть ему законом брака».[480]
Еще более «романический» характер имеет рассказанная в «Степенной книге» история князя Юрия Святославовича Смоленского и его преступной любви к княгине Ульяне Вяземской. Своеобразная «новелла», посвященная этому князю конца XIV — начала XV в., была включена в «тринадцатую степень» (посвященную великому князю Василию Дмитриевичу) в виде особой главы. Краткое известие о князе Юрии Святославиче, изгнанном литовцами из Смоленска, получившем от Василия в удел Торжок и опозорившем себя обесчещением и убийством жены своего вассала, читалось еще в своде 1448 г., передавала его и Воскресенская летопись, но в Никоновской летописи и Лицевом своде его не было.[481] Смоленск был в XVI в. присоединен к Русскому государству, его древние русские князья, обиженные Литвой, заслуживали не осуждения, а сочувствия. Но составителям «Степенной книги» этот эпизод показался интересным, и они превратили его в занимательный и поучительный рассказ. История «осквернения» и убийства княгини Вяземской была развернута в целую сцену, во время которой Ульяния «много моляше и увещевая его», а Юрий «не внимаше словесам ея, но наипаче же вельми похотию разжигашеся и поверже ю и ляже с нею». Рассказав, как Юрий прибавил к «блудному устремлению двоеубийство» Ульяны и ее мужа, автор, однако, развил далее сюжет в совсем неожиданном направлении. «Преблагий же бог, не хотяй смерти грешнику», дал возможность спастись заблудшему князю, происходившему как-никак от «праведного семени Владимирова». Юрий нашел в земле Рязанской монастырь, постригся и «добродетельным житием тьщашеся угодити богу»; он умер в монастыре, «и погребоша его честно с пеньми надгробными». Смоленск же был благополучно возвращен России в княжение «самодержавного государя и великого князя Василия Ивановича».[482]
Казанская история. Наиболее явственно сочетание беллетристического и публицистического вымысла обнаруживается в «Казанской истории». Написанное в 1564–1566 гг.[483] «Сказание вкратце от начала царства Казанского… и о взятии царства Казани, еже ново бысть» отличалось от летописных сводов и «Степенной книги» своим более конкретным, «монографическим» характером; но вместе с тем оно не было и историческим повествованием, подобным «Сказанию о Мамаевом побоище». Автор его ставил своей целью рассказать не только о взятии Казани при Иване IV, но и обо всей истории этого царства. Историю эту он сразу же начинал с легенды, неизвестной русскому историческому повествованию и заимствованной, очевидно, у казанских татарских феодалов, — о фантастическом царе «Саине ординьском», ходившем на Русскую землю после смерти Батыя, освободившем место «на Волге, на самой украине русской» от страшного двуглавого змея и создавшем богатое царство, кипящее «млеком» и «медом» — Казань.[484] Смелое внесение явно легендарных рассказов, отсутствовавших в летописной традиции, характерно и для последующих глав «Казанской истории». Легендарный характер имела, например, история казанского царя «Улуахмета», затворившегося в созданном им «граде ледском» и разбившем превосходившие его силы русских князей (с. 49–54). Совершенно не посчитался автор с летописной традицией и в рассказе о падении монголо-татарского ига (стоянии на Угре). Он не только игнорировал известия о колебаниях Ивана III в 1480 г., но сочинил в противовес им рассказ о «грубости великого князя на царя». Получив от царя Ахмата его «басму», «великий же князь ни мало убоявся страха царева, но приим базму парсуну лица его, и плевав на ню, излома ея, и на землю поверже, и потопта ногама своима». Разгневанный царь послал на Ивана «свою силу срацинскую», однако великий князь, дока оба войска стояли на Угре, придумал «добро дело» и послал на Золотую Орду своего служилого царя Нурдовлета и воеводу Василия Ноздреватого. Русские войска, найдя Орду «пусту», «поплениша жен и детей варварских»; узнав об этом, Ахмат «от реки Угры назадь обратися бежати» (с. 55–57). Но центральной темой «Казанской истории» было все-таки окончательное завоевание Казани при Иване IV. Основными персонажами этой части повествования были «царь державы Руския» Иван (рассказ о котором автор начинал с описания «самовластия боляр» в годы его детства) и казанская царица Сумбека.
В «Казанской истории» причудливо смешались самые различные литературные влияния. Ряд особенностей связывал этот памятник с официальной публицистикой XVI в. — со «Сказанием о князьях Владимирских», посланиями Ивана Грозного, возможно, с официальным летописанием XVI в.[485] Близка была «Казанская история» и к историческому повествованию предшествующего периода: в ней обнаруживаются прямые заимствования из «Повести о Царьграде» Нестора-Искандера (перипетии борьбы за Казань, даже самый образ автора-христианина, попавшего в плен к «агарянам») и Хронографа. И наконец, эта «красная новая повесть», как именовал ее автор, следовала и чисто беллетристическим памятникам — «Александрии» и «Троянской истории».[486]
Смешение различных литературных влияний не могло не сказаться на художественном стиле «Казанской истории». Исследователи уже отмечали «разительное нарушение литературного этикета», свойственное этому памятнику; вопреки канонам воинской повести, враги здесь изображаются в героических красках: «… един бо казанец бияшеся со сто русинов, и два же со двема сты», «падение храбрых казанцев» сопровождается разграблением мечетей, убийствами и жестокостями, совершаемыми русским войском (с. 131, 155–157).[487] Но особенно неожиданным оказывается изображение главы Казанского ханства царицы Сумбеки. Едва ли можно считать, что Сумбека «Казанской истории» — «идеальный образ».[488] Автор «Казанской истории» повествует «о любви блудной со царицею улана Кощака», о готовности царицы по сговору со своим любовником «царевича сына ея убити, юнаго», о том, как после вынужденного брака с Шигалеем Сумбека несколько раз пыталась отравить своего второго мужа (с. 96). И все-таки Сумбека для автора «Истории» — не только прелюбодейка и преступница. Она остается «красносолнечной» и «мудрой» царицей, и ее низвержение с престола оплакивает все Казанское царство: «И тако же и честныя жены и красные девица в полате у нея многоплачевный глас на град пущаше, и лица своя красныя деруще, и власы рвуще, и руце и мышцы кусающе. И восплакася по ней весь царев двор и вельможи, и властили, и вси царьстии отроцы. И слышавше плач той, стекахуся народ ко цареву двору и тако же плакахуся, и кричаху неутешно» (с. 97–98). Низвергнутая Сумбека вспоминает своего первого любимого мужа Сапкирея и, как подобает героиням древнерусской литературы, плачет, обращаясь к нему: «О милый мой господине, царю Сапкирее! Виждь ныне царицю свою, любил еси паче всех жен своих, сведому бываему в плен иноязычными воины на Русь, с любимым твоим сыном, яко злодеица… Увы мне, драгий мой живот! Почто рано заиде красота твоя ото очию моею под темную землю!» (с. 98–99). Даже московский воевода, присутствующий при всеобщем плаче казанцев, не может удержаться от сочувствия и утешает царицу: «Не бойся, госпожа царица, престани от горкаго плача, не на бесчестие бо и не на смерть идеши… И есть на Москве много царей юных, по твоей версте… Ты же млада, аки цвет красный цветяся или ягода винная, сладости наполнена». Завершается эта трогательная сцена тем, что отъезжающую царицу провожают «всем градом и народом градцким…, воюще горко по царице, аки по мертвой, все от мала и до велика» (с. 100).