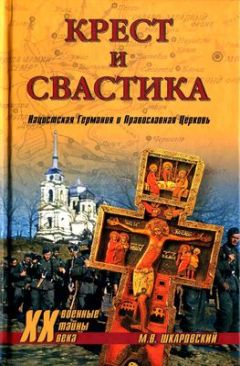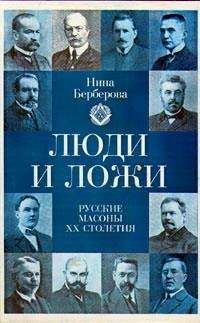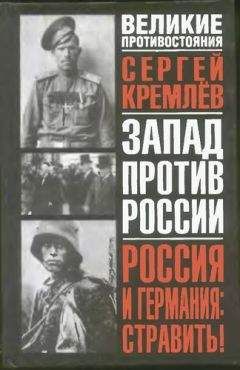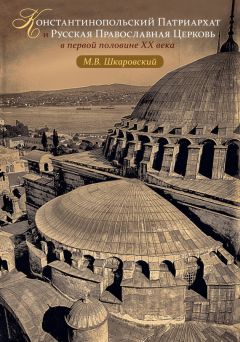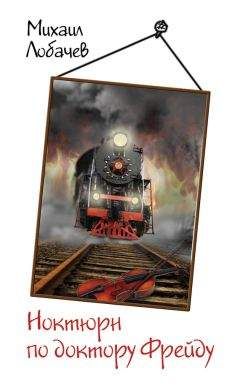Михаил Шкаровский - Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь
5 декабря в Партийной канцелярии состоялось совещание референтов, представлявших различные ведомства, о конфессиональном обслуживании иностранной рабочей силы. На нем было решено позволить православным священникам различных юрисдикции и национальных групп в строго ограниченном количестве заниматься окормлением восточных рабочих. Потребность в священниках должны были определять РСХА и Рабочий фронт. Указанные два ведомства, в рамках достигнутого 5 декабря соглашения, в дальнейшем разрешили окормление восточных рабочих ряду священников автокефальной Украинской Церкви. Об этом Партийная канцелярия сообщила 22 февраля 1945 г. РКМ, подчеркнув, что речь идет о лицах, подчиняющихся раскольническому епископу Мстиславу (Скрыпнику). Чтобы последний мог исполнять свои юрисдикционные функции, ему предложили выдать удостоверение следующего содержания:… Мстислав в Потсдаме руководит деятельностью священников, которым разрешено окормление украинских рабочих в рейхе; епископ является представителем главы Украинской автокефальной Церкви митрополита Поликарпа, он может совершать богослужения, проповедовать и т. д.[639] До практической реализации этого плана не дошло. Упомянутый епископ, во время войны тесно сотрудничавший с нацистскими ведомствами, в конце 1944 г. проживал на территории Словакии и не смог переехать в Потсдам. Германские историки Ф. Хейер и X. Вайче упоминают, что …Мстиславу было поручено рейхсфюрером СС Гиммлером духовное окормление восточных рабочих в Судетах, но он уже не мог выполнить это задание[640].
Война заканчивалась, и в ее последние месяцы особенно активизировалась душепопечительская деятельность священнослужителей Германской епархии. В начале января 1945 г. в Берлин прибыли два монаха братства преп. Иова (эвакуированного из Словакии и Германию). Один из них — будущий архиепископ, а тогда архимандрит Нафанаил опубликовал в 1947 г. очень интересные воспоминания о религиозной жизни русских берлинцев во время четырех последних месяцев войны: «Какой изумительный подвиг совершался на наших глазах. Эти юноши и девушки, порабощенные жесточайшей немецкой властью, угнетенные каторжной, нечеловеческое работой на фабриках и заводах тоталитарной войны, — они по воскресеньям, часто после бессонной ночи, проведенной на работе, спешили толпой в церковь… И гестапо было вынуждено сдаться: народное море переплеснулось через края преград. Лагерные начальники пытались их попросту не выпускать из лагерей. Но девушки и юноши по утрам переползали через заборы, пробирались под колючей проволокой, окружающей лагеря, и все-таки приходили в церковь… И с самого раннего утра по воскресеньям безостановочной густой лентой шла эта родная толпа от ближайших станций метро к православным церквам. Немецкие власти не решались пойти на крайние средства и признали себя побежденными духовной жаждой этих людей… С пяти часов утра все многочисленные иереи соборного клиpa, все бесчисленные священники, съехавшиеся в Берлин, множество батюшек, пришедших на богослужение из лагерей, где они сами работали, как простые рабочие — в общей сложности иногда до двух-трех десятков священников по разным углам храма начинали исповедывать говеющих»[641].
По свидетельству архимандрита Нафанаила, в феврале 1945 г., после эвакуации из Берлина немецких центральных учреждений, для православного духовенства открылась перспектива почти неограниченно широкой возможности работать. От оставшихся растерявшихся чиновников, при отсутствии какого-либо контроля со стороны начальства, можно было за небольшую взятку (кофе, шоколад, батарейки и т. д.) получить что угодно: «За эти блага мы покупали у лагерь-фюреров, у маленьких агентов арбайтсфронта и других людей, влиявших на жизнь наших остов, разрешения на открытие церквей по лагерям, на устройство там школ или просто на преподавание там Закона Божия». Таким же образом удалось освободить из лагерей многих священников, которым поручали совершение богослужений во вновь открываемых церквах. При кафедральном соборе были организованы курсы Закона Божия, посещавшиеся сотнями восточных рабочих и т. д. Только два указанных монаха за февраль — апрель 1945 г. совершили богослужения в 20 лагерях, в пяти из которых создали церкви[642].
Таким образом, можно сделать вывод, что стихийное стремление к вере миллионов русских людей в конце концов оказалось сильнее всех запретов. При этом существовало удивительно благожелательное отношение восточных рабочих и советских военнопленных к зарубежному русскому духовенству — нет никаких документов о случаях его неприятия, отвержения и т. п. Германским учреждениям не удалось провести четкого разграничения между священнослужителями из оккупированных территорий СССР карловчанами. Все эти священники, за исключением духовенства автокефальной Украинской Церкви, считали себя принадлежавшими к единой общей Русской Православной Церкви, и существовавшие юрисдикционные разделения в военные годы сгладились до минимума. Обманулись нацистские учреждения и в своих надеждах на то, что советские люди за два десятилетия атеистической пропаганды стали безрелигиозными. Большинство восточных рабочих и советских военнопленных были верующими. По различным оценкам, на богослужениях в лагерях присутствовало от 50 до 95 % их обитателей. Точно определить долю верующих, конечно, невозможно, но наиболее реальной представляется цифра в 65–70 %. По результатам переписи 1937 г., содержавшей вопрос о вере в Бога, положительно ответило на него 56,7 % населения СССР[643]. А в годы войны, как признавали даже советские ученые, религиозность выросла еще больше. При этом заметной оставалась часть общества, отвергавшая религию. Но в любом случае священнослужители Германской епархии имели в 1942–1945 гг. миллионную паству, и они сделали все возможное для ее духовного окормления.
5
Отношение Русской Православной и Украинской Грекокатолической Церквей к холокосту
Русская Православная Церковь оказалась в самом центре событий Второй мировой войны и была вынуждена самым непосредственным образом реагировать на холокост. Следует подчеркнуть, что она не была в тот период единой, от нее откололось несколько групп, позиции которых в этом вопросе не во всем совпадали. Раньше всего, еще до начала войны между Германией и СССР, свое отношение к преследованиям евреев высказали многие русские священники-эмигранты в различных странах Европы, принадлежавшие к двум юрисдикции — митр. Евлогия в Париже и карловчане.
В Западно-Европейский Экзархат митрополита Евлогия входило и несколько русских приходов, расположенных на территории Германии. Как уже говорилось, вскоре после прихода национал социалистов к власти эти общины стали подвергаться разнообразным преследованиям и ограничениям. При этом в качестве предлога использовался миф о том, что деятельность приходов Русского Западно-Европейского Экзархата в Германии — важнейшее звено широкомасштабного заговора против Третьего рейха с участием русских эмигрантов, направляемого и финансируемого международными еврейско-масонскими структурами и французской разведкой. Гестапо обвиняло митрополита Евлогия в принадлежности к масонству еще с 1913 года[644].
Нацисты справедливо подозревали «евлогиан» в отсутствии симпатий к их режиму, его антилиберальной идеологии и агрессивным устремлениям в области внешней политики. Негативно относилась паства митрополита Евлогия и к расовой теории, прежде всего к культивируемой ненависти к евреям. Несколько евреев имелось среди преподавателей знаменитого Свято-Сергиевского богословского, института в Париже под патронажем владыки Евлогия, о чем нацистам было хорошо известно (вскоре после оккупации столицы Франции они арестовали профессоров Зандера и Зеньковского). Правда, о какой-либо широкой оппозиционности евлогианской общины в самой Германии говорить нельзя. Ее духовенство отличал подчеркнутый аполитизм и глубокая сосредоточенность на религиозной жизни. Исключение составлял только вопрос об отношении к евреям[645].
Глава германских евлогианских приходов архимандрит Иоанн (Шаховской) никогда не скрывал своего крайне негативного отношения к антисемитизму нацистской идеологии и политики. Аналогичная характеристика правомерна и в отношении его прихожан. Уже на второй год нацизма архим. Иоанн дал на него пастырский ответ, опубликовав брошюру «Иудейство и Церковь», в которой писал о несовместимости расовой теории с христианской верой.
В послевоенных воспоминаниях (в то время уже архиепископ Сан-Францисский) Иоанн о своей позиции в связи с преследованиями евреев, к сожалению, писал немного и скромно: «Сколько людей оказывало по деревням и городам бескорыстную помощь несчастным людям… Как сейчас вижу одну глухую, средних лет, еврейку с аппаратом на ухе, странствующую из дома в дом. Ей давали приют христиане. Это было одно из ужасных апокалиптических видений тех лет — люди с желтой звездой Давида, обреченные на заклание. Вспоминаю совершенный мною тайный постриг над одной еврейкой-христианкой, моей духовной дочерью, рабой Божьей Елизаветой, получившей вызов из гестапо. В значении этого вызова мы не сомневались. Благословляя ее на мученичество, я дал ей новое имя, Михаилы, в честь архангела Михаила, вождя еврейского народа… Конечно, как и всем, пришлось мне в те дни в гестапо подтверждать документами свое „арийское происхождение“ и говорить о своих убеждениях и о вере Церкви… Однажды следователь, допрашивавший меня, зная, что я принимаю в лоно Церкви всякого человека, без различия расы, спросил меня: „Ну а если бы Литвинов [646] захотел креститься (Литвинов в те годы был в Германии персонификацией того, что называлось „иудобольшевизмом“), — вы бы его тоже крестили?“ „Конечно, — ответил я, — если бы Литвинов покаялся и захотел жить во Христе. Церковь приняла бы его наравне со всеми“»[647].