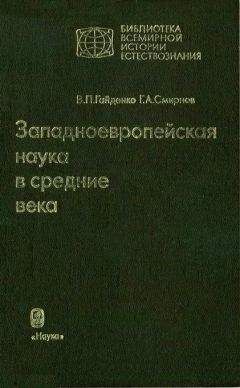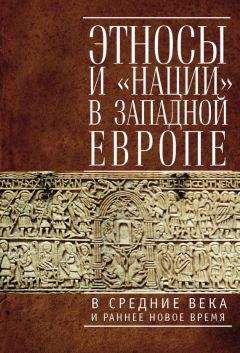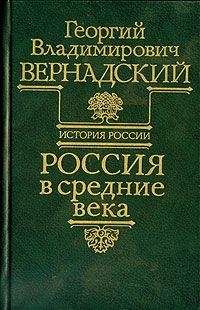Ричард Пайпс - Русская революция. Россия под большевиками. 1918-1924
Со своей стороны, попутчики представляли коммунистическую Россию любознательному, но невежественному Западу как страну, где намеревались, несмотря на невообразимо тяжелые обстоятельства, построить первое истинно демократическое и эгалитарное государство в истории. Роль партии и службы безопасности при этом замалчивалась; Россия живописалась в виде общества, где политические решения демократически принимаются Советами, эдаким российским эквивалентом американских собраний избирателей для вынесения решений по городским делам. [По мнению М.Филлипса Прайса, русского корреспондента «Manchester Guardian» в 1920-е, «никто в то время не сознавал... что настоящим центром власти в России должно было стать не правительственное управление, но коммунистическая партия. Ленин в тот момент уже начал внедрять потихоньку партийных функционеров во все важные государственные органы, превращая партию таким образом в единственный источник власти» (Survey. 1962. № 41. Р. 22). Примечательным исключением явилась книга: Bach L. Le Droit et les Institutions de la Russie Sovietique, опубликованная в Париже в 1923. В США роль коммунистической партии в управлении Советской Россией, а также роль Коминтерна, впервые были подвергнуты публичному анализу сенатором Генри Доджем в январе 1924 г. на основании материалов, предоставленных Государственным департаментом (см.: Lasch С. The American Liberals and the Russian Revolution. New York-London, 1962. P. 216-217).]. Многое якобы было достигнуто в области социального, расового и полового равноправия, простым людям предоставлены уникальные возможности по освоению культуры и знаний. Для придания этим фантастическим картинам некоторого правдоподобия говорилось об отдельных недостатках, однако вина за них возлагалась на трудности, неизбежные при «попытке строительства Нового Иерусалима»135. Когда же миф о практически идеальной всенародной демократии уже невозможно оказалось поддерживать — а это случилось, когда на Запад просочилось больше сведений относительно истинного положения в Советской России, — все пороки системы и неудачи режима в отношении данных им обещаний свалили на наследие царизма. По словам московского корреспондента «New York Times» Уолтера Дюранти, являвшегося непосредственным источником всей необходимой американским попутчикам аргументации, какого совершенства можно было ожидать от страны, которая только что «избавилась от мрачнейшей тирании»136? Положим, в Советской России действительно диктатура, но ведь демократии не выучишься за один день, — в такой аргументации имелась бы известная доля правды, если бы страна на самом деле стремилась стать демократической.
Побудительные мотивы попутчиков оказывались разными, как и личности тех, кто совершал паломничество в Москву: «тревожные еретиканствующие профессора, атеисты в поисках религии, старые девы, ищущие компенсации в революционной деятельности, радикалы, жаждущие укрепить поколебленную веру»137. Анжелика Балабанова, служившая секретарем Коминтерна и знавшая процедуру досконально, вспоминает, что по приезде в страну все гости распределялись по четырем категориям: «поверхностный, наивный, честолюбивый, продажный»138. В действительности, разумеется, мало кто идеально соответствовал какой-либо одной категории. «Наивный» идеалист часто обнаруживал, что ему легче придерживаться веры, если наградой за это становится слава; «продажный» визитер получал большее удовольствие от своей прибыли, когда ей подыскивалось идеалистическое оправдание (например, «торговля способствует укреплению мира» или «торговля цивилизует»). Отец и сын Хаммеры, добившиеся наибольшего успеха в Москве в 1920-х американские предприниматели, «совмещали», по словам Юджина Льонса, «дело личного обогащения с удовольствием помогать России»139.
Материальная заинтересованность, причем не только в узкокоммерческом смысле, поставляла коммунистам все новые и новые жертвы. Готовность преданно следовать всем изгибам линии партии гарантировала писателю и художнику щедрую поддержку со стороны эффективной и хорошо финансируемой партийной пропаганды: с ее помощью многие литераторы средней руки становились известными, даже знаменитостями, а их книги издавались огромными тиражами. Можно привести в пример Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера, Элтона Синклера, Линкольна Стеффенса, Говарда Фаста, сочинения которых с течением времени впали во вполне заслуженное забвение. Английские писатели-попутчики получали доступ в Левый книжный клуб Виктора Голланца, который только в середине 1939 г., на пике своей известности, разослал просоветскую популярную литературу пятидесяти тысячам подписчиков. Произведения подобной ориентации, выпущенные издательством «Пингвин», раскупались стотысячными тиражами140. Это происходило в то время, когда «Слепящую тьму» разуверившегося коммуниста Артура Кестлера, со временем признанную классическим произведением, отпечатали в Англии первым тиражом в тысячу экземпляров, а затем в течение года продали только четыре тысячи141. «Скотный двор» Джорджа Оруэлла отвергли четырнадцать издателей, поскольку она показалась им слишком антисоветской142. Западные журналисты приобретали имя, получив аккредитацию в Москве, а стиль их жизни здесь выходил далеко за пределы того, на что могли рассчитывать их коллеги дома; для этого требовалось писать только то, что одобряло советское руководство: в противном случае их ожидало лишение аккредитации и изгнание из страны. И, конечно же, готовым рисковать и симпатизирующим режиму предпринимателям предоставлялась возможность заработать денег на торговле и концессиях. С точки зрения Москвы, «продажные» симпатизирующие являлись самыми надежными, поскольку, не имея идеалов, они оказывались нечувствительны и к разочарованиям.
Большая часть попутчиков относилась, вероятно, к категории «наивных». Они искренне верили всему, что читали и слышали, поскольку страстно желали избавить мир от войн и нужды, и игнорировали неблагоприятные сведения о советском режиме. Они верили, что человека и общество можно довести до состояния совершенства, а поскольку знакомый им мир был далек от него, эти люди с готовностью принимали рекламируемые им идеалы за коммунистическую реальность. Капитализм вызывал у них отвращение, он допускал нищету посреди изобилия, его внутренние противоречия порождали милитаризм и войны. Эстетов возмущала вульгарность современной им массовой культуры, а следовательно, не могло не привлекать декларированное коммунистами намерение нести «высокую» культуру в массы. Основоположник «Баухауса» Вальтер Гропиус писал в своеобразной непоследовательной манере: «Поскольку в настоящий момент у нас совсем нет культуры, а есть цивилизация, я уверен, что большевизм, несмотря на все отвратительные побочные продукты его деятельности, является единственным путем заложить в обозримом будущем фундамент новой культуры». [Цитируется по кн.: von Gleichen H. Der Bolschewismus und die deutschen intellektuellen.Leipzig, 1920.S.50.Ненависть к вульгарности современной коммерческой культуры могла, разумеется, принимать и иные формы, например англомании (ср., напр., Генри Джеймс и Т.С.Элиот).].
Истинным идеалистам трудно оказывалось приспосабливать свое восприятие к тому, чтобы неблагоприятная информация не доходила до их собственного сознания: им приходилось прибегать к разного рода психологическим уверткам, позволявшим не думать об очевидных, но не вписывающихся в общую картину отрицательных моментах. Возвращаясь к пережитому, многочисленные разочарованные коммунисты и попутчики оставили нам воспоминания о том, как происходил этот процесс. Артур Кестлер, живший в Советской России в начале 1930-х, во время массового голода и абсолютного попрания гражданских прав, выработал у себя привычку рационализировать все, что он видел и слышал, воспринимая советскую действительность как нечто не вполне реальное, так, что «дрожащая мембрана натянулась между прошлым и будущим»: «Я научился автоматически относить все, что шокировало меня, к "наследию прошлого", а все, что мне нравилось, — к "росткам будущего". Установив в голове подобный сортировочный автомат, в 1932 г. европеец все еще мог жить в России и тем не менее оставаться коммунистом»143.
Труднее всего идеалистам-попутчикам оказывалось смириться с тем, что вожди Советской России были не альтруистами и благодетелями человечества, а своекорыстными политиканами, причем необычайно жестокими. Поэтому идеалисты редко говорили о политической деятельности коммунистов — о роли партии в советской жизни, о фракционной борьбе, об интригах и доносах, которыми сопровождались «чистки», ставшие после того, как окончилась гражданская война, непременным атрибутом коммунистической жизни. Попутчики предпочитали рассуждать о коммунизме исключительно как о социальном и культурном феномене. Анна Луиза Стронг, одна из наиболее верных попутчиков сначала Москвы, а затем и Пекина, не могла признаться даже себе самой, что ее идолы боролись за личную власть, как это делают везде обычные политики, настолько занят был ее взор созерцанием высших целей коммунизма. С ее точки зрения, изгнание Троцкого из партии Сталиным не имело никакого смысла: «Я никогда не могла понять, почему его выгнали, — писала она. — Я не могла понять, какая разница была между двумя теориями. Каждый хотел строить эту страну, не так ли?»144. Даже когда Сталин превратился в абсолютного хозяина Советского Союза, подобные люди все-таки отрицали, что его диктатура имела политический характер: «Как это ни странно, попутчики стали жертвами собственного ума и образованности. Усвоив, в лучшем духе Просвещения, что у всего есть материальная причина и на все влияет среда, они не могли позволить себе поверить в этот фокус-покус обскурантистов», в мегаломанию и паранойю, овладевшую одним человеком145. Короче говоря, чем более умным и образованным оказывался человек, тем труднее становилось ему уловить истинную природу режима, не придерживавшегося никаких рациональных принципов, привычным образом прибегавшего к силе для решения разногласий, которые в нормальном обществе разрешаются путем нахождения компромисса или обращениями к электорату. Приспособиться к такому режиму было проще бедному и необразованному, кого опыт жизни постоянно учил воспринимать иррациональность и жестокость как неизбежное.