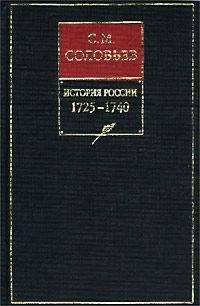Сергей Соловьев - История России с древнейших времен. Том 21. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. 1740–1744 гг.
Донесения Кантемира служили твердою опорою для Бестужева, который прямо представлял императрице, что на французские отношения надобно смотреть на основании донесений Кантемира: он один может доставлять верные сведения, а никак не петербургские советники императрицы, которые издалека не могут иметь ясного понятия о делах. Бестужев намекал на Лестока и Брюммера, к которым, естественно, примыкал и Дальон, пользовавшийся по старой памяти расположением императрицы. В начале июля Дальон доносил своему правительству следующее: «29 июня был бал, на котором ее величество мне рассказывала, что она, гуляя накануне в своем саду, встретила гвардейского солдата, который подошел к ней со слезами на глазах и объявил, что разглашается, будто бы она своих верных подданных хочет оставить и уступить корону племяннику своему. Я, говорила Елисавета, никогда в таком удивлении не была и сказала солдату, что это совершенная ложь и позволяю ему каждого, который станет то же говорить, застрелить, хотя бы то и фельдмаршал был. Она рассказывала это и г. Брюммеру, который ей представил, что подобные разглашения имеют одну цель – возбудить несогласие между нею и великим князем; из этого видно, как нужно приставить к молодому принцу таких людей, на которых она могла бы совершенно положиться. А я ей сказал, что этот слух носится уже недели с три».
Дальон хвалился своему правительству, что он вместе с Брюммером и Лестоком имел важное влияние на решение шведских дел, невзирая на кредит Бестужевых и интриги английского посланника Вейча. «Мы все проекты о супружестве между епископом Любским и английскою принцессою опровергаем. Господа Брюммер и Лесток мне сказали, что они недавно склонили царицу писать принцу, чтоб он не думал более об этом браке. Оба по моему наущению и собственным выгодам удвояют усилия, чтоб низвергнуть Бестужевых; они с нетерпением ожидают возвращения уполномоченных из Абова, которые должны открыть довольно тайн и неправильных поступков; намерение Брюммера и Лестока состоит в том чтоб по низвержении Бестужевых поручить заведование иностранными делами генералу Румянцеву, господину Нарышкину, который уже сюда едет, и князю Кантемиру, которого возвратят из Франции». Действительно, камергер Семен Нарышкин, посланник в Лондоне, был отозван оттуда; но Кантемира, страдавшего смертельною болезнью, возвратить не успели. Уведомляя свой двор об уменьшении кредита обер-гофмаршала Мих. Петр. Бестужева, Дальон писал: «Кредит гофмаршала, правда, много упал, но он опять поднимется; это такой человек, которого поневоле надобно будет чрез неприятелей его погубить, или же он в этом государстве будет играть важную игру». В половине августа Дальон доносил: «Царица имеет твердое намерение поддерживать в Швеции принца Голштинского, хотя нет таких способов, каких бы вице-канцлер тайно не употреблял, чтоб удержать ее от серьезного вмешательства в дело, но голос его и шайки его уже очень слаб теперь. В случае перемены в министерстве генерал Румянцев будет иметь большое участие в новых распоряжениях, и хотя он сам по себе не склонен к французам, но можно обнадежиться его женою, интриганкою и очень ловкою госпожою. Вейч уже начинает за ней ухаживать».
«Голос Бестужева и его шайки очень слаб теперь». Отчего же произошла эта слабость?
21 июля по Петербургу разнесся слух, что открыт какой-то важный заговор. Лесток прискакал из Петергофа в Петербург: императрица, находившаяся в этот день инкогнито в Петербурге, осталась здесь, не поехала в Петергоф, хотя лошади уже были приготовлены; ночью по улицам разъезжали патрули. Прошло три дня в беспокойном ожидании; наконец 25 числа, в пятом часу пополуночи, генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Трубецкой и капитан гвардии Григорий Протасов арестовали подполковника Ивана Лопухина, сына бывшего генерал-кригс-комиссара Лопухина, близкого человека к Левенвольду и попавшего под опалу вместе с ним; к матери Ивана Лопухина Наталье приставлен караул, и письма их запечатаны. В тот же день спрошены были доносчики – поручик лейб-кирасирского полка Бергер, родом курляндец, и майор Фалькенберг – и объявили следующее: поручик Бергер сказал, что 17 числа был он в вольном доме, где был также и подполковник Иван Степанов Лопухин; из вольного дома пошли они в дом к Лопухину, где хозяин наедине жаловался ему на свою обиду: «Был я при дворе принцессы Анны камер-юнкером в ранге полковничьем, а теперь определен в подполковники, и то не знаю куда; канальи Лялин и Сиверс в чины произведены; один из матросов, а другой из кофешенков за скверное дело. Государыня ездит в Царское Село и напивается, любит английское пиво и для того берет с собою непотребных людей… ей наследницею и быть было нельзя, потому что она незаконнорожденная. Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его, очень к императору склонен, а нынешней государыне с тремястами канальями ее лейб-компании что сделать? Прежний караул был и крепче, да и сделали, а теперь перемене легко сделаться; если б и тогда Петру Семеновичу Солтыкову можно было выйти, то он бы и сам ударил в барабан; за то его тогда и от двора отрешили. Будет чрез несколько месяцев перемена; отец мой писал к матери моей, чтоб я никакой милости у государыни не искал, поэтому и мать моя ко двору не ездит, да и я, после того как был в последнем маскараде, ко двору не хожу». Идучи с Бергером 21 числа мимо дома фельдмаршала князя Трубецкого, Лопухин бранил последнего, также принца Гессен-Гомбургского, и говорил: «Нынешняя государыня больше любит простой народ, потому что сама просто живет, а большие все ее не любят».
По доносу Фалкенберга Лопухин говорил: «Нынешние управители государственные все негодные, не так как прежние были Остерман и Левольд, только Лесток – проворная каналья. Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся». На вопрос Фалкенберга, скоро ли это будет, отвечал: «Скоро будет». Фалкенберг при этом сказал ему, что когда дело благополучно кончится, то он бы его вспомнил, и Лопухин обещал вспомнить. Фалкенберг спросил: «Нет ли кого побольше, к кому бы заранее забежать?» На это сначала Лопухин ничего не отвечал, только пожал плечами; но потом сказал, что австрийский посланник маркиз Ботта императору Иоанну верный слуга и доброжелатель.
В тот же день Лопухин был допрошен в присутствии Ушакова, Трубецкого и Лестока и повинился: «Говорил в поношение ее величества, что изволит ездить в Царское Село для того, что любит английское пиво кушать; я же говорил, что ее величество до вступления родителей ее в брак за три года родилась; и те слова употреблял, что под бабьим правлением находимся, а больше того никаких поносительных слов не говорил, а учинил ту продерзость, думая быть перемене, чему и радовался, что будет нам благополучие, как и прежде». Относительно Ботты Лопухин заперся и сказал: «Фалкенберг говорил: „Должно быть, маркиз Ботта не хотел денег терять, а то бы он принцессу Анну и принца выручил“. – И я против того молвил, что может статься». После очной ставки с доносителями Лопухин во всем повинился. От него потребовали, чтоб открыл все о злых умыслах; он попросил времени обдумать и на другой день, 26 июля, сказал: «В Москве приезжал к матери моей маркиз Ботта, и после его отъезда мать пересказывала мне слова Ботты, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне. Ботта говорил, что и прусский король будет ей помогать, и он, Ботта, станет о том стараться. Те же слова пересказывала моя мать графине Анне Гавриловне Бестужевой, когда та была у нее с дочерью Настасьею. Я слыхал от отца и матери, как они против прежнего обижены: без вины деревня отнята, отец без награждения отставлен, сын из полковников в подполковники определен».
Привели к допросу мать Наталью Федоровну Лопухину; она объявила: «Маркиз Ботта ко мне в дом езжал и говаривал, что отъезжает в Берлин; я его спросила: зачем? Конечно, ты что-нибудь задумал? Он отвечал: так хотя бы я что и задумал, но об этом с вами говорить не стану. Слова, что до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне, я от него слышала и на то ему говорила, чтоб они не заварили каши и в России беспокойств не делали и старался бы он об одном, чтоб принцессу с сыном освободили и отпустили к деверю ее, а говорила это, жалея о принцессе за ее большую ко мне милость. Ботта говорил также, что будет стараться возвести на русский престол принцессу Анну, только я на это ему, кроме объявленного, ничего не сказала. Муж мой об этом ничего не знал. С графинею Анною Бестужевою мы разговор имели о словах Ботты, и она говорила, что у нее Ботта то же говорил». Лопухину допрашивали в ее доме.
Допросили графиню Анну Гавриловну Бестужеву, жену Михайлы Петровича (вдову Ягужинскую, урожденную графиню Головкину). Та сказала только: «Говаривала я не тайно: дай бог, когда бы их (Брауншвейгскую фамилию) в отечество отпустили!» Но дочь ее, Настасья Ягужинская, подтвердила показание Лопухиной. После этих допросов Ивана Лопухина, его мать и Бестужеву посадили в крепость, а дочь Бестужевой оставили в доме под караулом. В крепости Наталья Лопухина призналась: «Такие разговоры Ботта и при муже моем держал, и как мы его подлиннее допрашивали, то он отозвался: вот захотели, чтоб я вам, русским, и о том рассказал! Причем меня и выбранил».