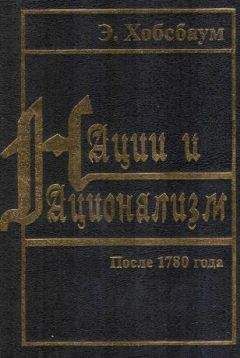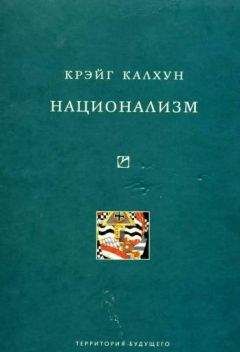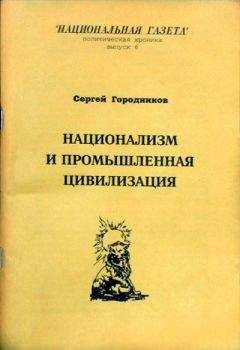Андрей Тесля - Первый русский национализм… и другие
91
Ср. в письме к Фуделю от 04.XII.1890: «Что касается до соединения Церквей и до вины Греч<еского> дух<овенства> 1000 лет тому назад; то мы с вами, как люди мыслящие – (Православно), – имеем, может быть, право, не согрешая сильно, – думать, что при известных истор<ических> условиях на Востоке и на Западе, может быть, и произойдет в какой-нибудь форме это соединение; может быть, и Папу тогда – когда-то – признают наши. – Но пока само Восточное высшее духовенство не выступило на этот путь, мы с Вами оба, как сыны Восточн<ой> Церкви (а тем более Вы как Священник), не имеем права по духовной совести и по страху Божию поддерживать Соловьева в его папизме » (с. 248–249).
92
В связи с редакционным примечанием «Благовеста» к статье Фуделя Леонтьев писал: «<…> где же они нашли у меня “вражду к Славянофильству”? Да что они, глупы, что ли? К “среднему европейцу” – да! К пошлости “Славянск<ой> интеллигенции” – да; – и поэтому – к сентиментальному ихнему Панславизму – да! Но к культурному Славизму – где же? Это разница. Соловьев – наоборот: тому не панславизмы мешают; лишь бы приблизиться к Папству – ему и Панславизм ничего; – ему-то, наоборот, культурное обособление России – ненавистно, как помеха слиянию с католиками» (Леонтьев – Фуделю, 20.X.1890, с. 240).
93
Бесконечно называемые им Гоголь, Белинский, Щедрин, Достоевский, Чернышевский, Толстой, Мережковский – любимые или ненавидимые, но очень небольшой перечень имен, к тому же скорее «знаков», чем читаемых: Белинского Розанов не читал с самой Симбирской гимназии (Мимолетное. 1914); Пушкин для него явно нечасто читаемый поэт, по крайней мере цитаты, которые он приводит, преимущественно наиболее расхожие. Только Достоевского да Гоголя он знает практически наизусть – свою главную любовь в литературе и главный объект ненависти: но в них зато он вглядывается безотрывно, целиком, размышляет о них постоянно. Примечательно, как в рецензии на «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» он отметит недостаток: «Указаны мои статьи о Риме, где, я наверно помню, ни слова не говорится о Достоевском» – и затем, шесть дней спустя, вынужден будет извиниться перед Анной Григорьевой, выписавшей в защиту своего издания «дословно из моих “Римских впечатлений” места, где я говорю о связи трудов Достоевского с христианским таинством покаяния, и еще одно место» ( Розанов, 2003: 81, 82): Достоевский оказался в его тексте, вопреки его памяти, как нечто само собой разумеющееся, непреднамеренное.
94
Весы. 1906, № 1. С. 69. Цит. по: Розанов, 1995: 505–506.
95
В последнем Розанов публиковался преимущественно под псевдонимом Варварин.
96
Ст. 87 Основных законов Российской империи позволяла правительству с санкции императора принимать законы в экстренных ситуациях в период отсутствия Думы: они должны были быть внесены затем на ближайшей сессии Думы, а отклонение их Думой лишало их юридической силы, равно как они утрачивали силу и в случае невнесения в Думу.
97
Василий Маклаков, которого коллеги по кадетской партии в шутку (в которой есть только доля шутки) называли вместе со Струве «черносотенцем», студентом вывез из Парижа набор открыток с изображением «жертв французской революции» (как он пытался оправдать свое приобретение на русской таможне), а в имении располагал полной подборкой «Монитёра», подаренной ему друзьями, перечитав едва ли не все о той эпохе. Если даже у умеренного Маклакова увлечение французской революцией доходило до того, что он на старости лет по памяти цитировал речи в Национальном собрании, то для людей несколько более левых взглядов отношение к революции вряд ли можно описать иначе как «влюбленность»: и революция 1917 г. будет беспрестанно смотреться в зеркало революции 1789 г., находя и собственную Вандею, и собственный термидор – и ожидая (единодушно со своими противниками, но с разным, разумеется, настроением) появления «Бонапарта».
98
Стоит вспомнить, что Столыпин был выходцем из западных губерний и губернатором в Гродно – ему «польский вопрос» был знаком непосредственно, и, выросши в атмосфере споров о «русификаторской» политике в северозападных губерниях, с чем была связана и его последующая деятельность, он расценивал подобную ситуацию как нетерпимую, в которой невозможно проведение «русской политики», блокированной польскими голосами.
99
Выстрел в Сараево стал лишь одним из многих событий, могших спровоцировать всеобщую катастрофу, – конфликт в Танжере несколькими годами ранее вполне годился на ту же роль, а балканские события 1908 г., когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, первая (1912) и вторая (1913) балканские войны предоставляли изрядное количество поводов. Подробная предыстория Первой мировой тем и интересна, что демонстрирует: ни одна из сторон не желала войны, но и ни одна не боялась ее в достаточной степени. Война мыслилась как пагубная, но, может быть, в конечном счете благая развязка той путаницы и противоречий, что накопились в Европе с 1870–1878 гг., в ней готовы были видеть «очистительную грозу», которую никто не желал вызывать сам, но которую многие готовы были принять с облегчением.
100
Либо, описывая в «позитивном» ключе: в 1870—1890-е гг. «в России <…> под либерализмом имелись в виду в основном “народолюбие”, оппозиционность и конституционализм (последние два признака – желательно, первый – sine qua non)» (Христофоров, 2011: 299).
101
Другие аспекты этой ситуации применительно к России подчеркивает М. Малиа в своей теории происхождения «русского социализма», сформулированной в работе: (Малиа, 2010). Краткая ее формулировка дана автором в итоговом исследовании 1994 г.: «<…> элементом русского национального наследия <…> была склонность российской интеллигенции XIX века к максимализму. <…> Тому есть две причины. Первая из них состоит в том, что интеллигенция в России возникла раньше тех более привычных промежуточных классов, что разделяли господ и крестьян в странах к западу от нее. Подвешенная между небом и землей, не имевшая корней ни в одной из социальных групп, игравших практическую роль в жизни общества, интеллигенция в подавляющем большинстве случаев с головой уходила в чистую теорию, которую ей никогда не доводилось проверять на практике в реальной политике. Вторая причина этого максимализма сводится к тому, что российская интеллигенция с ее поздним появлением в истории европейского культурного развития унаследовала весь тяжкий груз английской, французской и немецкой интеллектуальных традиций. А так как далеко идущие последствия распространения этих традиций были слишком велики, чтобы закореневшее в крепостничестве самодержавие могло к ним безболезненно приспособиться, результатом стала сверхкалорийная идеологическая диета и хроническое интеллектуальное несварение» (Малиа, 2002: 87). Формирование русского либерализма оказывается практически одновременным с параллельным формированием радикальных направлений, в отличие от расположенных западнее обществ. В результате либерализм не встречает своих критиков «слева» уже сложившимся, более или менее идеологически оформившимся направлением, завоевавшим свое место в интеллектуальной жизни, а оказывается синхронным им в противостоянии консервативным идейным направлениям (и поскольку все они оказываются равно отстраненными от возможности практического воплощения, либерализм проигрывает в конкуренции радикальным направлениям, предлагая умеренную программу в ситуации, когда шансы на реализацию любой программы, предполагающей существенные перемены, имеются лишь при условии полного изменения текущей ситуации).
102
Имеется в виду монография Л. Я. Гинзбург «Творческий путь Лермонтова», вышедшая в Ленинграде в 1940 г.
103
Речь идет о монографии Л. Я. Гинзбург «“Былое и думы” Герцена» (Л.: ГИХЛ, 1957).
104
Статья «Эвфемизмы высокого», «о дружеском письме людей пушкинского круга», будет ею написана в 1986 г. (Гинзбург 2011а, 432–440).
105
Невозможно жить без защиты – и эту роль на себя в случае Гинзбург берет литература, возможность зафиксировать мысль, чувство в слове – и тем самым дистанцироваться от него, сделать мысль мыслимой. В разговоре с Гуковским она скажет:
«– Я не могу не писать, <…> когда я не пишу, я не думаю. <…> Если бы я попала на необитаемый остров, я, вероятно, стала бы писать на песке.
– Вы и так пишете на песке, – сказал Гриша» (Гинзбург 2011, 125–126, запись 1935 г.).
И в следующей непосредственно за этой записью проговаривается ключевое:
«– <…> Вы до странного без заслонов. Почему-то вы видите самые жестокие для вас вещи.