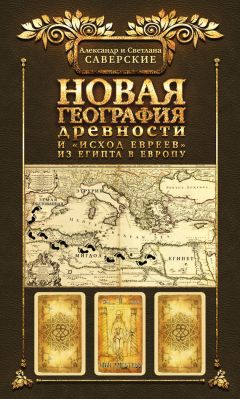Владимир Брюханов - Мифы и правда о восстании декабристов
Не заговорщиками, а вполне посторонней публикой было замечено, что Милорадович, рассыпая угрозы публичного возмущения, не считал нужным даже мобилизовать деятельность подчиненной ему полиции. В России после 14 декабря писать об этих событиях было запрещено долгие годы, но за границей сразу стали выходить публикации, в которых отмечалась невероятная активность заговорщиков в первые две недели декабря, когда они бегали с совещания на совещание на глазах всего города. Заметим притом, что сам Милорадович отнюдь не терял бдительности.
Согласно действовавшим правилам, на городских заставах строго фиксировался приезд и отъезд каждого лица. При этом проверялись документы, удостоверяющие цель проезда: разрешение на проезд нужно было получать заранее или иметь привилегированное право беспрепятственного проезда, какое получали лишь высокие должностные лица, специальные и почтовые курьеры. Списки ежедневно приезжавших и отъезжавших подавались непосредственно генерал-губернатору — для контроля. Последний, таким образом, полностью контролировал въезд и выезд из столицы — прошедший и будущий. Если он, например, хотел или был обязан запретить чей-нибудь проезд, то для этого достаточно было отдать соответствующее распоряжение заставам — и легально проскочить было бы попросту невозможно! Запомним это!
Характернейший пример из тех дней: Милорадович внимательнейшим образом просматривал эти списки и сразу среагировал, обнаружив, что в Петербург приехал М.Л. Магницкий — один из прежних фаворитов Александра I и соратник Сперанского, участь которого Магницкий разделил в 1812 году, и одним постановлением с ним был в 1816 году освобожден от опалы.
Магницкий теперь был всего лишь попечителем Казанского учебного округа, но жаждал известности и приобщения к власти. В 1817 году он ударился было в пропаганду отмены крепостного права, но быстро заметил, что теперь на этом далеко не уедешь. Тогда он резко сменил курс, сделался ярым патриотом и открыл войну всем проявлениям западного духа.
Казанский университет подвергся буквальному разгрому — были уволены почти все лучшие профессора. Между прочим, Николай Павлович охотно принимал уволенных к себе в Инженерное училище.
Так вот, опасаясь прежнего влияния и авторитета Магницкого в царском семействе, Милорадович немедленно выставил из столицы этого интригана.
Что же касается Константина Павловича, то принятые им решения, вопреки позднейшей оценке Трубецкого, все же сыграли роковую роль. Формально он был совершенно прав, считая, что сделал все, чтобы освободить трон младшему брату. Не был он обязан и вытаскивать Николая из дыры, в которую того засадил Милорадович. Но, разумеется, позиция Константина этим не исчерпывалась.
Прореагировав мгновенно и очень грамотно на материалы, высланные из столицы 27 ноября, он, по-видимому, постепенно задумался над текстом Манифеста от 16 августа 1823 года, и все больше приходил от него в ярость. Когда же он получил просьбы о помощи, присланные в ответ на его исчерпывающие решения, то это показалось ему уже слишком! Люди, подло лишившие его права на трон, еще и не могут самостоятельно распорядиться узурпированным правом!
Нежелание сделать хоть что-нибудь, чтобы предотвратить беспорядки в столице (а ведь нельзя утверждать, что он о них заранее не знал или не догадывался: вспомним его слова о брандере, кинутом в Преображенский полк!), выдает вполне враждебное его отношение к брату, восходящему на трон вместо него.
Наиболее четко позиция Константина сформулирована в его послании к матери от 8 декабря, написанном в ответ на петербургские письма от 3 декабря: «Что касается моего приезда в Петербург, дорогая и добрая матушка, куда вы меня приглашаете, я позволю себе очень почтительно обратить ваше внимание, дорогая и добрая матушка, на то, что я нахожусь в жестокой необходтмости отложить мой приезд до тех пор, пока все не войдет в должный порядок, так как если бы я приехал теперь же, то это имело бы такой вид, будто бы я водворяю на трон моего брата; он же должен сделать это сам, основываясь на завещательной воле покойного государя», — вот он, ответ на Манифест 16 августа 1823 года! В этот момент Константин Павлович порывает с интересами ближайших родственников.
Выразилось это и в фактическом разрыве отношений: хотя 20 декабря 1825 года Константин в торжественном послании и поздравил Николая с восшествием на престол, а затем прислал толковые соображения о событиях 14 декабря, но связи между Петербургом и Варшавой сузились до самого формального и необходимого минимума. Позже Николай, обеспокоенный таким развитием событий, нашел способ подействовать на княгиню Лович, а та уговорила мужа приехать на коронацию Николая, состоявшуюся в Москве 22 августа 1826 года. Только тогда произошло определенное примирение братьев.
Но и позднее, вспоминая при свидетелях события прошедших лет и придерживаясь версий, максимально лояльных по отношению к покойному брату и к ныне царствующему императору, Константин Павлович неизменно скрежетал зубами!
Возражения же Константина Павловича против дальнейшего его участия в возведении брата на престол убедительными не выглядят: Константин ведь и так действительно сам возвел Николая на трон — и сделал это исходившими от него документами от 14 января 1822 года и 26 ноября и 3 декабря 1825 года — первый и третий из них играли решающую юридическую роль. Но 8 декабря 1825 года он окончательно отказывается приехать в Петербург и подтвердить своим присутствием (пусть даже безмолвным!) добровольность своих решений. Почти прямым текстом он заявил: вы выпустили Манифест 16 августа, дорогие и добрые покойный Александр и живой Николай (а также и матушка!) — ну так и получайте! А ваш не очень добрый брат и сын Константин предпочитает издали посмотреть, как это без него Николай сумеет уцелеть, столкнувшись с Преображенским полком!
Разумеется, Константин нисколько не повинен в сокрытии от публики своих ясных и четких решений, но при сложившейся ситуации он своим отказом присутствовать в столице дает недвусмысленную санкцию на выступление мятежников!
Парадокс ситуации состоял в том, как мы объясним ниже, что этим же самым решением Константин спас династию от утраты самодержавия или даже всякого правления целиком!
Заговорщики же стали в определенной степени заложниками своей предшествовавшей почти десятилетней нелегальной деятельности, точнее, как уже говорилось, — бездеятельности.
Верховной власти в столице и стране не было уже с 27 ноября, а фактически и раньше — с болезни Александра в Таганроге. Это не могло быть замечено сразу, т. к. Александр I был великолепным главой государства: высшая администрация, тщательно подобранная им, умело руководила Россией и во время нередких и продолжительных заграничных отлучек императора, и во время его поездок по стране. Но всей столице с 3 декабря стало ясно, что высшая власть в государстве отсутствует — самым принципиальным и нешуточным образом.
Не воспользоваться таким уникальным обстоятельством после многолетней пропаганды друг другу и в сочувствующих кругах необходимости захвата власти — это означало для заговорщиков окончательно и бесповоротно признать себя полными ничтожествами, каковыми они, по большому счету, и были на самом деле!
Это очень четко сформулировал И.И. Пущин. Никак не откликнувшись на сообщение о смерти Александра I и на присягу Константину, он живо реагировал на весть об отсутствии присяги Константину в Варшаве. 5 декабря, поняв, что началось междуцарствие, он взял на службе отпуск и ринулся из Москвы в Петербург. Оттуда он написал накануне 14 декабря московским друзьям — М.Ф. Орлову, М.А. Фонвизину и С.М. Семенову, адресуясь к последнему: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай. Когда ты получишь это, все уже будет кончено. Нас здесь 60 членов, мы можем надеяться на 1500 рядовых, которых уверят, что цесаревич не отказывается от престола. Прощай, вздохни от нас, если и прочее».
Таким образом, идея выступления, вроде бы окончательно отброшенная сразу после 27 ноября, вновь возрождалась — хотя пока что трудно объяснить, почему заговорщики не желали смиряться со вступлением на трон Николая, а вполне удовлетворялись воцарением Константина — это, напоминаем, было позицией Рылеева и Оболенского еще накануне 27 ноября. Она заставляет подозревать наличие тайных предворительных договоренностей с цесаревичем, которые, однако, ни в чем практически не проявились. Ниже мы дадим разгадку этого пародокса.
Замысел будущего выступления был фактически уже продиктован Милорадовичем в его угрозах Николаю и царской семье: в момент приведения войск к присяге Николаю объявить последнего узурпатором и призвать солдат к защите якобы законного императора Константина — это был единственный способ поднять сопротивление против по-настоящему законной власти.