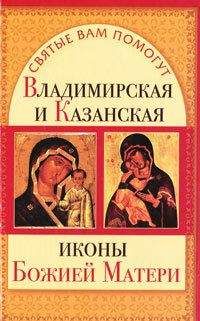Александр Пыльцын - Правда о штрафбатах.
Недалеко от Рембертува в городке, кажется под названием Весела Гура, стоял еще один, уже не хирургический, а терапевтический госпиталь, откуда привезли ко мне врача-консультанта. Это был пожилой, белый как лунь, подполковник с такими же до белизны седыми пышными усами. Он тщательно осмотрел и ощупал меня, потребовал, чтобы у меня взяли необходимые анализы крови и увез их с собой. А через день-два приехал с заключением: "Больной страдает частыми приступами тропической малярии". Вот уж поистине неожиданной была эта весть. Откуда? Да еще тропическая, если я южнее Уфы нигде и никогда не был? И сразу отпала версия о сепсисе, как предполагалось раньше. Ведь еще тогда, после ранения в голову, когда Рита не могла найти меня среди раненых, врач ей сказал: "У него высочайшая температура, скорее всего — сепсис и, видимо, его нужно искать уже в морге".
Ну, и слава богу, теперь причина моей хвори ясна, и лечение будет адекватное.
Пришлось мне лечь в этот терапевтический госпиталь, где меня взялись интенсивно лечить какими-то экзотическими уколами и от этой диковинной лихорадки, и от сильнейшего малокровия. Моим лечащим врачом был тот самый усатый подполковник. Я даже запомнил его фамилию — Пилипенко, а вот имя и отчество позабыл, хотя долго с ним переписывался и даже, когда учился в Ленинградской академии, встречался с ним, уже уволенным в запас и проживавшим в Ленинграде.
А тогда в этот госпиталь с какими только заболеваниями ни привозили военных. Помню хорошо, что однажды привезли группу офицеров и солдат, отравившихся метиловым, или как тогда говорили, «древесным» спиртом. И последствия были трагическими. Несколько человек полностью ослепли, а некоторых не удалось спасти вообще. И это уже через месяц-два после окончания войны. Как же, наверное, горько это было выжившим, но ослепшим, и как больно родным тех, кто не выжил после соблазна «хватить» чего-нибудь спиртного. Уж лучше бы хватили обжигающего и зловонного «бимбера», настоянного на карбиде кальция, — желудки бы попортили, но этот свет, который был так прекрасен без войны, не покинули бы…
А я между приступами моей, сколь экзотической, столь и трудноизлечимой болезни, когда мое состояние позволяло, ездил, а иногда и ходил «домой», навещал готовившуюся стать матерью Риту. Да и сам исподволь готовился к отцовству. Мое состояние стало понемногу улучшаться, приступы стали легче и даже реже. И все ближе знакомился с сотрудниками госпиталя, где Риту снова определили номинально на службу, поставили на все виды довольствия, что было в то время немаловажно.
Всей культурно-массовой работой в госпитале руководила веселая, энергичная девушка — комсорг госпиталя Лида Бакош. Она и меня «втравила» в самодеятельность: на концертах, когда был в состоянии, я с удовольствием читал и симоновские "Жди меня" и имеющее особый успех у слушателей "Открытое письмо к женщине из города Вичуга", а также "Стихи о советском паспорте" и отрывки из поэмы «Хорошо» Маяковского.
Память моя после ранения в голову несколько ослабла, но Маяковского я хорошо помнил еще по школе. А вот мои гитарные и вокальные упражнения, которые скрашивали время в медсанбате после подрыва на мине, мне перестали почему-то удаваться. И когда я об этом заговорил с моим лечащим врачом Пилипенко, он предположил, что это, возможно, последствия ранения в голову и контузии мозга. Ну, да и бог с ними, этими моими музыкальными данными. Важно то, что я стал постепенно поправляться.
Рита тоже еще принимала участие в самодеятельности, но уже не танцевала «гопак» и «барыню», а на медленную «цыганочку» ее все-таки упрашивали.
Рядом с госпиталем в казармах размещалась какая-то польская военная школа. Наши концерты проходили и там. По-видимому, по национальной традиции Войска Польского, курсантов учили бальным танцам и часто устраивали танцевальные вечера. Рита умоляла меня ходить с нею туда хотя бы иногда. Я, конечно, оберегал ее, сопротивлялся, но ее мама, к моему удивлению, вставала на сторону Риты, и я сдавался. А Екатерина Николаевна еще и умудрялась, подкладывая вату в определенные места женской одежды, делать почти незаметной беременность дочери.
И вот однажды на таком танцевальном вечере достаточно пожилой польский офицер пригласил Риту на какую-то мудреную мазурку, где он становился перед ней на колено, выбрасывал вперед шпагу, а партнерша должна была вальсировать вокруг, перепрыгивая через нее. Какое удовольствие было на лице у Риты, когда она с блеском выполнила все эти пируэты, а кавалер в конце танца галантно поклонился, поцеловав ее руку, и сказал, что он давно не танцевал с такой умелой партнершей. Рита была вне себя от радости и гордости, раскраснелась, но, вернувшись домой, поняла, что наступают роды, хотя, по нашим расчетам, им было еще не время.
Ночью мы вели ее в госпиталь почти через весь Рембертув, часто, во время схваток, останавливались и Рита присаживалась на стул, который я прихватил по совету ее мамы. Привели ее в госпиталь, и Рита с мамой ушли, а меня оставили на всю ночь ожидать результата. Курил я нещадно, вышагивая десятки километров по коридору, волнуясь за нее. А к утру она родила. Роды принимала ее мама, а ассистировала ей Мира Гуревич.
Я знал, что новорожденные, конечно, очень маленькие, но наш оказался настолько мал! Как потом мне сказали, в нем всего было чуть больше килограмма, да и рост нестандартный, малый. Такое щупленькое тельце. Конечно, преждевременные роды — не столько итог мазурки, сколько следствие того, что пришлось Рите, да и зревшему тогда в ней человечку, пережить на войне, особенно — на поле боя. Правильно писала Инна Павловна Руденко: "война — не лучшая из повитух".
С рассветом, когда меня допустили к Рите, я сфотографировал счастливую мать с только что родившимся сыном. Еще задолго до родов мы придумывали имя будущему ребенку. Я предложил назвать, если будет сын, Аркадием. Пусть, говорил я, будет он Аркадием Александровичем, в честь моего первого и любимого фронтового комбата Осипова. И даже один день он у нас прожил под этим именем. Но потом у Риты подернулись слезой глаза, и назавтра она сказала, что ей ночью приснился ее отец, умерший в блокадном Ленинграде, и она хотела бы назвать нашего первенца Сергеем в честь отца. У меня не было никаких оснований возражать.
Первую неделю нашего Сереженьку держали в срочно сооруженном «инкубаторе», обогреваемом электролампами и грелками. А потом вырос, наверстал. Ровесник Победы! Сейчас, когда я пишу эти строки, ему уже 57. И ростом «дошел», почти 180, и вес «набрал» — около центнера! И шесть лет, как нет его родительницы, заботливой матери и доброй бабушки.
А тогда, вскоре после рождения сына, мне сделали операцию по извлечению немецкой пули, сидевшей во мне больше года после памятного ранения под Брестом. Операция была вынужденной, так как пуля эта, мигрируя в теле, вышла под кожу на самом неудобном месте и ни сидеть, ни лежать спокойно не давала. Извлекли ее сравнительно легко, под местным обезболиванием, но мой организм, вероятно ослабленный жестокой малярией, среагировал неадекватно. Когда я после операции вышел на воздух, во двор, мне стало дурно, и я едва устоял на ногах…
А в общем-то моя малярия стала понемногу отступать, приступы ее стали более редкими и менее изнурительными, температура уже не доводила меня до бредового состояния и мне можно было (да и нужно уже) возвращаться в батальон. Но тут встала задача: и ребенка нужно зарегистрировать, и брак свой узаконить. Поехал я в Варшаву, зашел в комендатуру города, надеясь все по-быстрому оформить. Там мне разъяснили, что теперь в Варшаве функционирует Консульский отдел Советского посольства, где и регистрируют все акты гражданского состояния. Нашел я это учреждение и узнал, что для регистрации брака нужно присутствие обоих «брачующихся», а для регистрации ребенка достаточно документа, подтверждающего факт его рождения.
Через несколько дней на машине начальника госпиталя мы, празднично одетые, с начищенными орденами и медалями, оказались в нужном месте. Процедура регистрации была простой: сделали отметки в наших служебных документах и выдали свидетельства о браке и о рождении сына. А в этом свидетельстве записали в графе "место рождения": "город Варшава, Польша". И какое совпадение: отец Риты, Сергей Михайлович Макарьевский, русский, предки его имели польские корни, а теперь вот его внук Сергей родился на земле предков своего деда.
Мальчик рос хорошо. Из худенького, маленького тельца стал оформляться эдакий крепыш. Грудного молока у Риты оказалось так много, что и Сереже хватало с лихвой, да еще приходилось по ночам сцеживать лишнее. Это обстоятельство быстро стало известно польским кобетам, у которых был дефицит этого ценного продукта. И тогда они брали эти излишки, а взамен приносили Рите фрукты и овощи. Такой вот «бартер»! Так что у Сережи в Рембертуве росли "молочные братья или сестры".