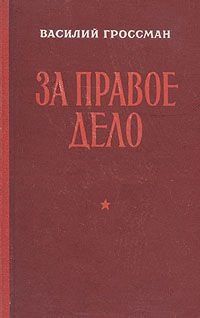Михаил Гефтер - Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством
— Ты же понимаешь, что значит не оказать первой помощи при инсульте? А Сталин как раз инсульта боялся, боясь участи Ленина, — инсульт которого его спас в 1923 году. Ленина он с тех пор тайно ненавидел, это моя давешняя гипотеза.
Берия был прямо опасен политбюро как тот, кто мог в любой момент покончить с любым из эпигонов лубянскими методами. Но опасен еще и как человек неожиданный. Теперь они его боялись, как прежде Сталина, и особенно их вспугнула бериевская перестройка. Когда Берия под крылом Маленкова пошел ломать и менять всю систему.
В вину Берии поставили многое из того, что теперь числят в заслугах Хрущева. Тут и желание навести мосты к Югославии, и отказ от строительства социализма в ГДР, и поездка по союзным республикам, где отзывались русские вторые секретари, и заодно МВД очищалось от русских начальников с заменой «националами». Берии важно было всюду быстро нагромождать массу чего-то противосталинского. А Маленков, хоть и был орудием в его руках, смертельно боялся своей прежней роли и подписей на старых делах.
Вся политическая борьба пятидесятых велась только вокруг темпов и моделей десталинизации. Единственное, что можно было, спасая себя, противопоставить перестройке по Берии, была десталинизация по Хрущеву — выпуск людей из ГУЛАГа. Это неизбежный, необходимый ход, поскольку в других отношениях конкурент тебя легко опережал.
148. Никита Хрущев и «волчья стая». Непереводимость сталинской советской системы в иное состояние
— Жалко, ты не досмотрел фильм, мы с тобой могли бы его обсудить. «Волчью стаю»[27].
— Мне стало противно. Хотя я люблю и плохие исторические фильмы, но не люблю обвинительных.
— Этот не плохой, он посредственный.
Но интересен, конечно, финал Хрущева. Человека, который рано, еще при Сталине, закончился, как вдруг воскрес и мучительно для других самопродлевался. Даже в худшие моменты у него сохранялись человеческие мотивы. Сохранялась связь с временем, которое его выдвинуло. У Хрущева было чувство причастности к времени. А людишки вокруг уже вполне вне истории и немыслимы вне своего номенклатурного гнезда. Для них незыблема данность, к которой они должны приспособиться и в рамках ее достигать своих целей.
— У заговорщиков 1964 года тоже есть интересная сторона. Их звездный час — двадцатилетие от 1945-го до 1964-го. Они выдвиженцы войны и послевоенного взлета. Благодаря смерти Хозяина пропасть не распахнулась под ними. Для них время после 1945-го — взлет, восхождение вверх! Время невероятных карьер. Многое внес в их жизнь сам Хрущев, они хрущевские ставленники. Но время в фильме отсутствует, а есть тупая схема «номенклатурности». А ведь 1964-й — это бунт хрущевцев против Хрущева.
— Как раз то, что я хотел сказать, — нужно их представить в том виде, в каком они были тогда. Важна фигура Хрущева между фиаско и банкротством. Хрущев споткнулся на проклятии второго шага. Первый шаг его был впечатляющий и обновляющий. Первый шаг Хрущева поистине революционный — он открыл ворота лагерей уничтожения и выпустил на свободу сталинских политических заключенных, этих бесповодно виноватых тоталитарного режима. Важно было не только их возвращение в жизнь и не их затянувшаяся, отчасти лицемерная реабилитация. Этот акт совершился в стране, которая представляла из себя один лагерь, глядящийся в другой лагерь. Лагерь и лагерь, глядящиеся друг в друга, как в зеркало. Это открыло дорогу человеческой нормальности и ее представителю — свободному слову. В первом акте 1956 года в зачатке присутствовало все будущее — не только властное, но и противовластное. Не только шаги вперед, но и шаги назад. Все остальное, сделанное Хрущевым или при Хрущеве, — это поиски второго шага, равного по масштабу. Поиски не увенчались ничем, но отложились в ряде результатов положительного и негативного свойства. И в завершение — Новочеркасская бойня и Карибский кризис, надлом и падение Хрущева: второй шаг не удался. Теперь о Хрущеве говорят в комическом жанре — «Никита-кукурузник», но трагический регистр более точен. Он оставался правоверным коммунистом и дальше коммунизма, возвращающегося к «незамутненным первоистокам», пойти не мог. Остальное — личный момент: его скачки в тупике, оснащаемые его самодурством. Иссякания сил, своего банкротства он совершенно не ощущает и не поймет никогда, до самой смерти.
В этом отношении у стаи 1964-го больше проблесков понимания, несмотря на низменность их побудительных мотивов. Заговорщики начали с экономической реформы, отказа от его шараханий.
Интрига — в коллизии непереводимости системы Сталина в иное состояние. Даже освобождаясь от хрущевской вздорности, которую нельзя было дальше терпеть, эпигоны делают это не иначе, как по ритуалу системы. И третья неизвестная — в фильме отсутствуют люди, на судьбе которых так или иначе все скажется. Которым спустя много лет трудно решить, что для них было лучше — хрущевская эксцентрика или налет волчьей стаи?
— Поразительна возможность такого заговора, для советских заговор — это дерзость, и они ее осознают. Он рвет с правилами лояльности партии. Как они себя при этом чувствуют?
— Опыт организации заговора уже был — прежде всего, заговор Хрущева против Берии[28], затем заговоры против самого Хрущева[29]. В сознании этих людей Вселенная вставлена в рамочку заседаний политбюро, вне рамочки ничего значащего нет. В фильме стерты их побудительные мотивы; была же разница между Брежневым[30], Подгорным[31] и, скажем, Устиновым[32] и Шелепиным[33]. Взяли образ волчьей стаи, а ведь мотивы там у людей были разные. Не случайно Косыгина из антихрущеского заговора исключили. Он уже тогда начинал не вписываться, и его держали в неведении до последнего момента. Неясна роль Игнатова в этом деле и его побудительные мотивы.
То, что я зову цветением аппарата, пришло позже. Но Хрущев наступал всем на ноги. Он мешал аппарату, который привык решать, и жить хотел вровень праву решать. Для антисталиниста Никиты Сталин остался тайным образцом. Он еще жил своими прежними страхами и прежним обожанием. А для новых Сталин просто сказочное чудище, он мертв и безвреден. Опасным зато для них стал Хрущев.
149. Срыв середины 1950-х. Апостол Павел в лагере Кенгир. Коммунизм и Архипелаг ГУЛАГ
— Срыв середины пятидесятых годов — результат житейских ошибок и невероятного потрясения, которым стал для меня XX съезд с хрущевскими разоблачениями. Понимаешь, вот мой парадокс: человек внутренне сопротивлялся сталинщине, но не дойдя до грани, где мог сам себя освободить от наваждения, — не принял освобождения извне (еще и банального по форме). Я отказался принимать свободу извне как человек, который внутренне шел к освобождению, но еще не дошел! Меня оскорбляли легкомыслие и банальность, с которой меня освобождали извне именем «дорогого Никиты Сергеевича».
— Что для тебя тогда значило «освободиться изнутри»?
— Внутренне свободно помыслить категории возмездия и расплаты в образах своего века — невозможности освободить нескольких, когда гнали в концлагерь всех. Вот ситуация апостола Павла в лагере Кенгир: быть со всеми, чтобы освободить хотя бы нескольких. Это и перечеркнуто ХХ веком, и возобновляет все заново. Нельзя отказаться от спасения немногих — но и найти в том утешение нельзя, легко впасть в самообман выполненного долга.
Почему коммунизм оказался неспособен заговорить языком Павла? Он мог выстоять, только сызнова всего себя пересмотрев как автора советской трагедии. Я давно пришел к мысли, и еще в Институте истории ее проводил как доктрину: если коммунизм причастность к трагедиям ХХ века и ответственность за них не введет в предмет рефлексии о самом себе, — коммунизм обречен. Тогда «Архипелаг ГУЛАГ» победит в двояком смысле — в солженицынском, а затем и буквальном. Либо коммунизм, искушенный Архипелагом, либо встречи с «групповым Солженицыным» ему не снести.
150. Михаил Лифшиц ждет «советского ТОЛСТОГО». Обоснование ленинской революции по Солженицыну
— А о Солженицыне у Романа Гуля написано интересно?
— Роман Гуль счастлив, что совпал с Солженицыным в отношении к Синявскому. Рецензию свою он назвал «Прогулки хама с Пушкиным». Идея Гуля, впрочем, интересна — Солженицын как давно ожидаемая советским марксизмом фигура, культурный герой, которого долго ждут. Лукач и Лифшиц еще с тридцатых годов ждали, что великие события дадут «советского Шекспира» или «советского Льва Толстого». В связи с чем Лифшиц даже пригрел Андрея Платонова с некоторым для себя риском. Прочитав «В круге первом», Лифшиц решает — пришел советский Толстой! Тот, кто искупит кровь и зверства истории коммунизма.