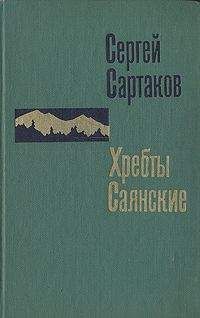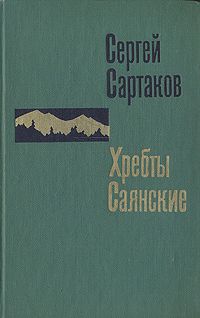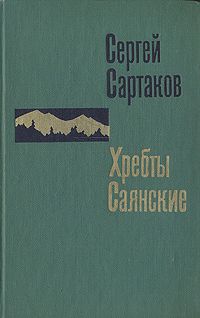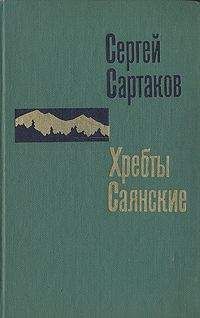Сергей Сартаков - Ледяной клад
А! Гори он или гасни, фонарь! Свой или казенный! Жди, Сашка Перевалов, смены себе или не жди!
Небо, черное, глухое, тесно припало к земле... Ветер, жаркий, бьет прямо в лицо...
- Жень... Ну, правда же? Это правда? Ты...
Максим не помнил ничего, не помнил, как вырвал свою руку из-под локтя Ребезовой, как повернулся к ней, схватил ее жадно, крепко и как тут же очутился в снегу на спине, отброшенный резким толчком.
Ребезова смеялась, журчала ручейком, помогала ему подняться.
- Говорила ведь: тропиночка узкая. Надо было теснее идти... Вон как ножками взбрыкнул, бедненький! Не ушибся? - Снова подхватила его под руку. Максенька, а фонарь? Он же казенный! - И опять совсем близко и жарко: - Ну, да брось ты его! В потемках лучше...
Если бы Женька теперь повела его обратно, в поселок, Максим все равно бы пошел. Он пошел бы куда угодно, хоть на Ингут, хоть в Покукуй, хоть пешком до самого Красноярска - только бы рядом с Женькой, только бы слышать этот жаркий ее шепоток.
Целоваться больше ему не хотелось. Было стыдно. Не того, что оказался на спине в снегу, а того, что поступил он грубо. Так ли любят, если любят?
А Женька, тесно-тесно припадая к Максиму плечом, повела его вперед, к спуску на реку, к тропе, протоптанной на Громотуху.
Они шаг за шагом словно бы растворились, исчезли в глухой черноте, куда-то унеслись на легких крыльях порывисто-веселого ветерка, а тонкий желтый луч фонаря еще долго высвечивал макушку сочувственно кивающей высокой сосны и заставлял ее переливаться огнистыми, праздничными блестками.
13
Приемная была очень маленькая, узкая, вся залепленная плакатами, призывающими людей сохранять свое здоровье, бороться с мухами, по утрам обтираться холодной водой, делать детям предохранительные прививки против оспы и дифтерита.
От этих ли плакатов или от самих стен, а может быть, от белых халатов и шапочек сотрудников и сотрудниц, беспрестанно снующих в кабинет и из кабинета врача, пахло валерьянкой, мятой, эфиром. А от пола веяло сырым холодом. Его только что вымыла пожилая санитарка, попросив ожидающих приема "маленько постоять в коридоре".
- Не хватает обслуги, - разъяснила она. - Прямо всех начисто техничек наших грипп подвалил. Какой-то, будь он проклят, новый, азиатский, что ли. Вот и прибираемся, кто остался на ногах, с утра до вечера. А тут народ и народ. Да все сюда ко Льву Ефимычу.
- Хороший врач? - спросила Баженова.
Санитарка обиженно пожала плечами. Сама тоже "сюда" пришла, а спрашивает! Она устало провела рукой по лицу, изрезанному тяжелыми, глубокими морщинами.
- Верют! Почему - нет? Чудеса человек делает. К кому и идти, как не к нашему. Ты что, приезжая, что ли, далекая? Из району? С направлением?
- Да, я из района, - сказала Баженова. - А направления у меня нет. Сама по себе приехала.
- А! Может и не принять. Лев Ефимыч строгий насчет порядков. Но ежели возьмется - на ноги мертвого поставит. У тебя что? Тяжелое?
- Да так... - стеснительно проговорила Баженова. - Просто спросить... Посоветоваться...
- А вот это уже свинячество, с пустяками ко Льву Ефимычу лезть, - сразу потеряв доброжелательность, сказала санитарка. - Ему с теми, кто без него никак, и то не управиться.
Ворча себе под нос "с жиру бесются", она принялась мыть пол как-то особенно шумно.
Ожидающие приема женщины теперь с неприязнью поглядывали на Баженову.
И когда санитарка, закончив работу, отмахивая рукавом халата волосы со лба, пригласила всех обратно в приемную, Баженова уселась в самый угол, к окну, от которого падали на пол морозные струи. Она старалась не привлекать к себе внимания. Не споря, тут же согласилась уступить свою очередь третью - и пройти самой последней. Ее даже устраивало это. Больше будет времени, чтобы подготовиться, заставить себя переступить трудный порог. Зачем же иначе прилетела она в Красноярск?
О Льве Ефимовиче, о его безошибочно-точных диагнозах, о его великолепном мастерстве хирурга говорит весь город. Только в Томске как будто бы есть равный ему хирург. Занимаясь служебными делами в тресте, она исподтишка вела расспросы. Все говорили: "Когда требуется чудо, - его может сделать только Лев Ефимович". Вот и сейчас санитарка сказала то же самое. Неужели чудо окажется возможным?
Или получится горше и проще: без направления Лев Ефимович ее просто не примет! И тогда?.. Брать направление в покукуйской больнице? По существу, ту самую справку, которую она не берет для своей бухгалтерии, предпочитая платить "шесть процентов бездетных", только бы все считали ее совершенно здоровой!
...Пять дней находится она в Красноярске. Пять дней оттягивала она свой приход сюда. Как трудно идти в "такую" больницу и показывать себя! Особенно когда хирург - мужчина!
Именно этого почему-то боялась она еще и тогда, на Урале. Надо решиться, стиснуть зубы. Она же ничего не ответила Николаю. Она должна ему ответить. Не может она против сердца, против своей совести сказать: "А я вас не люблю". Как выговорить это, если любишь! И невозможно, вовсе немыслимо допустить, чтобы и Николай когда-нибудь тоже сказал ей, как Анатолий: "Но я хочу иметь семью, быть отцом. И поэтому ухожу от тебя".
И зачем только, зачем она согласилась тогда пойти к этой знахарке! Согласилась надругаться над природой, над светлыми радостями и счастьем матери! Что и для кого тогда нашла она? И что потеряла! Навсегда, до конца своей жизни...
Да, но почему она сейчас винит во всем только себя? Почему она, по существу, оправдывает Анатолия? Семья, материнство, рождение ребенка... Разве это все только для женщины? Нужно лишь ей и не нужно мужчине? Так, что ли: радости этого обоим вместе, а если горе - женщине одной? Иметь ребенка не хотелось Анатолию, а на страдания он послал ее. И, может быть, теперь Анатолий уже счастливый отец, а она вот сидит здесь и ждет...
Баженова больно закусила губу, отвернулась.
На нее глядели. Считают: румяная, здоровая, пришла сюда с пустяком, "с жиру бесится". У всех, конечно, есть свои семьи. Это понятно с первого взгляда. Больны они все, должно быть, очень серьезно. Бледные, опавшие на лицо. Но об их здоровье думают сейчас, тревожатся мужья и дети. А у нее, полной, румяной, сущий "пустяк" - нет семьи, нет ни мужа, ни детей. И не будет.
И никто не станет тревожиться о ее здоровье...
Чередой пробежали перед ней опять те горькие видения, все-все с того вечера, когда она, рдея застенчивым румянцем, прошептала Анатолию, что у них будет маленький, а тот ответил раздраженно и торопливо: "Завтра мы подумаем, как это поправить..." И после - шесть лет жизни без радости, без тепла человеческого...
Баженова зажмурила глаза.
...Она увидела теперь полутемную комнату красного уголка, рабочих, сдержанно покашливающих в ожидании, когда же председатель закроет собрание, и вдруг возникшего на пороге незнакомого человека в дымящейся от мороза дохе.
"Надо быть не где южнее, а где нужнее", - сказал Цагеридзе в тот вечер. И эти его слова тогда как-то сразу вызвали к нему уважение. Может быть, именно потому она с такой готовностью пригласила его к себе на квартиру, рискуя еще больше осложнить отношения с Елизаветой Владимировной. Но этот человек покорил ее своей простотой, открытой душой и честностью суждений. А главное, она увидела: человек имеет большую цель жизни, человек тверд, человек добьется того, чего хочет. Не для себя. Для общего блага. Хорошо находиться рядом с таким человеком! Его сила становится и твоей силой.
И еще увидела она в тот же вечер: Николай Цагеридзе красив. Не той холодной нагловатой красотой, которая иногда притягивает сама по себе. Николай Цагеридзе удивительно красив в разговоре, в жесте, в порыве, когда на лице у него отражается вся его живая душа, горящая светлым, чистым огнем.
Да... А потом она видела его разным.
И оскорбительно-прямо упрекающим ее за непочтительное отношение к матери.
И энергично отдающим приказания, когда Михаил Куренчанин притащил из лесу на спине закоченевшую Афину.
И внимательно выслушивающим советы рабочих, как вернее спасти замороженный лес.
И растерянно переминающимся посреди танцующей молодежи, подавленного мыслью, что он - хромой и потому его жалеют.
И в бешенстве кричащим несправедливо и зло на старика бухгалтера.
И ковыляющим без палки, без костыля среди торосов Читаута по снежным сугробам.
И мрачным, с написанной на лице глубокой болью: "Николаю Цагеридзе сегодня связали руки...", глухо бормочущим непонятные злые слова на грузинском языке.
И наконец - стоящим под окном без шапки, плохо различимым в темноте морозной ночи: "Цагеридзе очень тоскливо. Цагеридзе понял сегодня - ему одному тяжело. Ему без вас больше нельзя... Мне нужно думать очень о многом. Но больше всего я буду думать, как я люблю вас, Мария..."
Она все время видела его разным и всегда одинаковым - самым для нее дорогим. Николай сказал ей тоже эти слова. Так разве может она не сделать все, все, чтобы действительно стать для него самым дорогим человеком!..