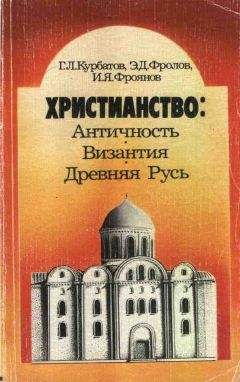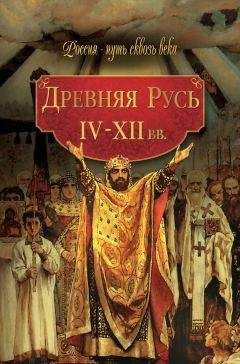Казимир Валишевский - Елизавета Петровна. Дочь Петра Великого
В области экономической производительные силы и богатства страны, в силу упразднения внутренних таможен, создания кредитных банков, толчка, данного эксплуатации рудников, и развитию торговли с Азией – значительно выросли и окрепли.
Колонизация юго-восточных степей, предпринятая с помощью заграничных славян, вопрос о монастырских владениях, разрешенный в духе Петра I и в тесной связи с учреждением светских благотворительных учреждений, наметили в двух различных направлениях новые пути политического, экономического и социального развития, где современной России остается еще обширное поле для работы.
Созданием Московского университета, организацией среднего образования и основанием национального театра, в особенности деятельностью Ломоносова, о котором Пушкин выразился справедливо: «он создал первый русский университет; он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом», – народ Петра Великого сделал еще один гигантский шаг вперед; не перегнав своих соседей Запада, как то твердили Екатерине иностранные льстецы, а сто лет спустя стали повторять и в России, даже еще и не догнав их, русский народ все же вступил на путь плодотворного умственного и нравственного общения с ними. Наконец, царствование Елизаветы подготовило двор и общество следующей эпохи с ее внешним блеском и пороками, с внедрением в высших слоях роскоши, утонченности, развращенности и сохранением в низших зияющей раны крепостного права. Но периоды развития и быстрого роста неразлучны с этими болезненными уклонениями. К счастью, периоды эти преходящи.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВНЕШНЯЯ ИСТОРИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ
Глава 1
Конец шведской войны. Роман маркиза Шетарди
Исторические сочинения, посвященные восемнадцатому веку и касающиеся внешней политики России – таких трудов немало за границей, и многие из них значительны и ценны – в большой мере облегчили мне задачу, к которой я теперь приступаю. Но в то же время они и осложнили ее. Я должен предполагать, что они знакомы читателям, хоть не могу быть вполне в этом уверен. С другой стороны, я нашел в работах моих предшественников некоторые пропуски, неясности и даже неточности, которые приводили, как мне казалось, к полному искажению исторической правды. Да простится мне, поэтому, моя скромная попытка восстановить эту правду, и пусть историки, суждения которых мне придется оспаривать, не откажутся мне верить, что я делаю это без всякого высокомерия или неуважения к ним. Я признаю всецело, как уже говорил выше, достоинства прежних исторических изысканий, позволивших мне предпринять мой труд, который я, в свою очередь, не считаю исчерпывающим. Другие после меня будут продолжать мою работу, стараясь добиться в ней большей точности и полноты; они также пересмотрят и сделанные мною открытия и выведенные на их основании заключения и, надеюсь, воспользуются той долей, которую я вложил в наше общее дело.
I. Елизавета и европейская дипломатияМне, разумеется, нечего напоминать читателям, каково было положение Европы при восшествии Елизаветы на престол. Австрийское наследство и грубое нападение Фридриха, жертвой которого сделалась наследница Карла IV, по-прежнему служили предметом раздора между западными державами и делили их на два враждебные лагеря: с одной стороны стояли Австрия и Англия, с другой Пруссия и Франция. Кроме того, чтобы не допустить вмешательство России в пользу ее союзницы Австрии, Франция и Пруссия натравили на Россию Швецию. Шведская армии открыла военные действия против России посреди зимы под тем предлогом, что она требует восстановления прав Елизаветы на наследие Петра Великого. Это была новая война за наследство, искусственно созданная первой австрийской войной. Но когда цесаревна Елизавета Петровна неожиданно для всех действительно села на престол отца, не прибегая при этом к помощи иностранных покровителей, то невольно возник вопрос, положит ли воцарение Елизаветы конец бесславной кампании шведов. Этот вопрос стал волновать дипломатический корпус С.-Петербурга на следующий же день после 25-го ноября 1741 года и вскоре возбудил тревогу и надежды во всех европейских канцеляриях, начиная с Берлина и кончая Лондоном. Он осложнялся еще многими другими. Предшественница Елизаветы, Анна Леопольдовна, завещала своей тетке не только один, столь близкий ее сердцу, австрийский союз. С редкой непредусмотрительностью она успела заключить договор и с Англией и с Пруссией, и таким образом связывала интересы России с каждой из враждующих сторон. Который же из этих союзов, противоречащих один другому, выберет Елизавета? И, сделав выбор, решится ли она помочь союзнику с оружием в руках?
Эти сомнения довольно долго оставались без ответа. Посреди радостей и волнений своего торжества, молодой императрице было, естественно, не до того, чтоб удовлетворять чужое любопытство. Представители дипломатического корпуса, пораженные ноябрьским переворотом, почти все находились у нее под подозрением в более или менее открытой преданности к Брауншвейгской фамилии; им не оставалось, поэтому, ничего другого, как ограничиться пока официальными поздравлениями, которые ясно показывали их смущение и их тревогу. Только один из них мог надеяться на бòльшую откровенность со стороны императрицы. Маркиз Шетарди находился в исключительном положении, созданном его прежними отношениями с Елизаветой. И он не замедлил воспользоваться им. Он уже тогда мечтал о роли, ставшей для него впоследствии роковой, и стремился достичь некоторых личных успехов, думая, что они повлекут за собою важные политические последствия в интересах его страны. Поэтому, отказавшись на время от своего дипломатического звания, чтобы уничтожить те препятствия, на которые натолкнулись его коллеги – он признал необходимым исходатайствовать себе у своего правительства новые верительные грамоты к новой государыне – он просил у нее милости быть принятым ею «как простой придворный».
Иоахим-Жак Тротти маркиз де ля Шетарди происходил из итальянской семьи и был по карьере дипломатом. В тридцать пять лет он насчитывал уже десять лет службы в Берлине. Но здесь он создал себе, откровенно говоря, лишь репутацию человека остроумного и умеющего жить на широкую ногу. «Маркиз приезжает на будущей неделе, будет чем угоститься», – писал Фридрих, радуясь веселому французскому гостю в одиночестве Рейнсберга. Правда, это было до 1740 года, когда Фридрих был еще и «принцем-философом», и другом Вольтера. Посылая маркиза Шетарди в Петербург, Франция поручила ему играть здесь роль тоже скорее декоративную, нежели высокого политического значения. Версальский двор по-прежнему считал необходимым блистать на берегах Невы с точки зрения исключительно внешнего великолепия. И маркиз оказался на высоте своей задачи, приехав в Петербург с двенадцатью секретарями, шестью капелланами, пятьюдесятью лакеями и знаменитым поваром Баридо, настоящим художником кухни. Этот повар тоже сыграл при Русском дворе свою роль так, что не только посвящал жителей Петербурга в ученые тайны своих тонких соусов, но считался некоторое время высшим авторитетом в вопросах гастрономии и был придворным поставщиком всего необходимого для изящной обстановки, между прочим, искусственных цветов, которыми в то время было принято украшать обеденный стол. Говорят, он нажил на этом недурные деньги.[387] В свою очередь, и пятьдесят тысяч бутылок шампанского его господина тоже произвели в Петербурге настоящую революцию: игристое французское вино сменило венгерское, которое прежде употребляли для тостов. Не считайте все эти подробности ничтожными: он занимают в истории народов более значительное место, нежели принято думать.
В событиях, предшествовавших восшествию Елизаветы на престол, маркиз Шетарди не выходил из пределов предназначенной ему его правительством роли. Цесаревна попробовала было воспользоваться им для своих целей, но должна была отступить перед его сдержанностью. Она произвела переворот 25-го ноября без его помощи, но обставила дело так, точно он принимал в нем очень большое участие. Она думала, что в Шетарди нет ни предприимчивости, ни любви к приключениям и – ошибалась. Под своею блестящей внешностью версальского придворного той эпохи с изысканными и церемонными манерами он таил, как многие другие, пылкую и мечтательную душу, готовую проявить себя при удобном случае. К тому же романтичность была у него в крови. Его мать, урожденная Монтале-Вилльбрейль, из старинного, но бедного лангедокского рода, была известна своими похождениями. «Сложенная, как богиня» – по словам Сен-Симона – «высокая, красивая, неумная, но обходительная, всегда вызывавшая о себе много толков, очень расточительная и очень надменная», – она давала богатую пищу скандальной хронике того времени. В 1703 году она вышла замуж за маркиза Шетарди, в 1705, ожидая рождения сына – будущего посланника – уже овдовела и вскоре вступила в новый брак с баварским дворянином графом Монастеролем. Она блистала среди известных красавиц последних лет царствования Людовика XIV, удивляя Версаль и Мюнхен своими приключениями, пока второй супруг ее не застрелился, прокутив все свое состояние.[388] Графиня Монастероль осталась в крайней бедности и принуждена была нищенствовать, стучась в двери своих прежних друзей. Между прочим, она взывала и к великодушию польского короля, и в благодарность за выпрошенные деньги обещала ему постоянно носить на память о нем браслет, выражая при этом надежду, что он не забудет приложить этот браслет к деньгам.[389] Как видно, у нее не было недостатка в воображении. У сына же ее было, пожалуй, даже слишком много. Но у него был узкий, ограниченный ум, один из тех умов, которые упорно цепляются за какую-нибудь идею, потому что не могут вместить больше одной зараз.