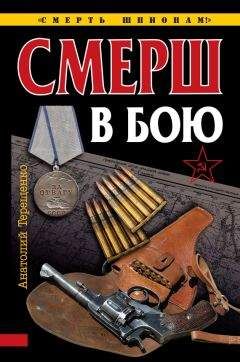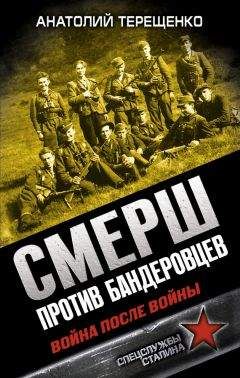Анатолий Терещенко - Как СМЕРШ спас Москву. Герои тайной войны
С точки зрения тех лет, когда послевоенная нищета господствовала по всей стране, лишняя пара обуви считалась роскошью. Именно всеобщая бедность населения выработала вполне объяснимую шкалу ценностей, когда один или два костюма у одного гражданина служили признаком честности, три – пробуждали подозрения, а четыре и больше вызывали у обывателя лютую ненависть к их владельцу. Из газет пятидесятых годов известна реакция советских граждан на обнародованный факт – после ареста первого секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) П.С.Попкова в ходе обыска у него будто было обнаружено полтора десятка костюмов. И запестрели в газетах призывы рабочих коллективов – сурово осудить перерожденца. Были даже требования расстрелять Попкова, что и было сделано. Здесь нет преувеличений. Достаточно вспомнить реакцию «простых» граждан на имущество помещиков, когда массово поджигали их усадьбы. Сегодня копится злоба на олигархов, прожигающих в том числе и чисто народные деньги за границей.
Интересная одна деталь, перед арестом Абакумова по приказу Берии были переключены телефоны кремлевской АТС: домашний на дежурного офицера в комнате охраны, а служебный – на приемную. Берии «неприятно» было теперь общение даже по телефону с государственным преступником, – боялся измазаться или отвечать на вероятно острые вопросы, касающиеся и его. Это тот Берия, который пресмыкался перед Хозяином, а в марте 1953 года, глядя в остывающее лицо Генсека, в душе желал скорейшего окончания житейской драмы и выстраивал наполеоновские планы. Дочь умирающего отца, Светлана, со временем опишет этот последний акт жизни Сталина. 5 марта 1953 года она была на уроке французского языка в Академии общественных наук. Позвонил Г.М.Маленков и попросил ее срочно прибыть на дачу – «Ближнюю». Дочь вождя встретили Хрущев и Булганин. Взяв ее под руки, сказали: «Идем в дом, там Берия и Маленков тебе все расскажут». Она увидела отца, лежащего на диване еще при жизни. Многие стояли и сновали с заплаканными лицами. А дальше дадим слово самой Светлане:
«Только один человек вел себя неприлично – это был Берия. Он был возбужден до крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были – честолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть… Он так старался в этот момент, как бы не перехитрить и как бы не дохитрить! И это было написано на его лбу. Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного. Отец иногда открывал глаза, по-видимому, это было без сознания или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза; он желал и тут быть «самым верным, самым преданным», каким он изо всех сил старался казаться отцу и в чем, к сожалению, слишком долго преуспевал… В последние минуты, когда все уже кончалось, Берия вдруг заметил меня и распорядился: «Уведите Светлану!» На него посмотрели те, кто стоял вокруг, но никто и не подумал шевельнуться. А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор и в тишине зала, где стояли все вокруг одра молча, был слышен его громкий голос, не скрывающий торжества: «Хрусталев! Машину!» Это был великолепный современный тип лукавого царедворца, воплощение восточного коварства, лести, лицемерия, опутавшего даже отца, которого вообще-то было трудно обмануть. Многое из того, что творила эта гидра, пало теперь пятном на имя отца, во многом они повинны вместе, а то, что во многом Лаврентий сумел хитро провести отца и при этом посмеивался в кулак, – для меня несомненно. И это понимали все «наверху»… Сейчас все это гадкое нутро перло из него наружу, ему трудно было сдерживаться. Не я одна – многие понимали, что это так. Но его дико боялись и знали, что в этот момент, когда умирает отец, ни у кого в России не было в руках власти и силы большей, чем у этого ужасного человека…»
Но вернемся к Абакумову. Вскоре арестовали и Антонину Николаевну с грудным двухмесячным ребенком – сыном Игорем, лишили квартиры и продержали в заточении два года и восемь месяцев в Сретенской тюрьме МГБ. У матери пропало молоко, и, чтобы мальчик выжил, следователи вынуждены были решить вопрос искусственного питания. В бутылках приносили матери коровье молоко. Только таким образом младенца спасли. В тюремной камере мальчик научился… ходить!
– Гражданка Смирнова, расскажите о конкретных фактах преступной деятельности своего мужа, – хмуро обратился один из дотошных следователей к арестованной.
– Таких данных у меня нет, потому что их никогда не было, – последовал довольно-таки смелый ответ. – Мой муж никакой не преступник. Он честно служил Родине.
В поисках компроматов ее обвиняли даже в связях ее отца и матери с Тухачевским.
* * *На свободе теперь оставался лишь один, но самый ненавистный Рюмину замминистра – Евгений Петрович Питовранов, с которым автору этих строк довелось общаться в начале шестидесятых во время учебы в ВШ КГБ при СМ СССР. Конечно, Рюмин мог вставить в список «заговорщиков» и эту «какую-то не по-русски звучащую фамилию», но собачий нюх заставлял проявлять осторожность и заручиться личной поддержкой Маленкова. Поэтому трусливая натура Рюмина заставила его «копать» дальше. Он рылся в протоколах допросов, беседовал с подследственными и осужденными, с которыми соприкасался Питовранов, но ничего компрометирующего найти не мог. Идти к Сталину не с чем, а потому при таком раскладе можно и «схлопотать по морде». И вот тогда, посоветовавшись с Маленковым, решили арестовать Питовранова без доклада Хозяину. Как результат работы на свет появилась «Служебная записка», в которой Питовранов прямо обвинялся в несусветной чуши, – «в практической бездеятельности по выявлению сотрудников нелегальной разведки Великобритании МИ-6 и их агентуры на территории Советского Союза». Зарвавшийся Рюмин без доклада Сталину с согласия Маленкова арестовал Питовранова, заполнив собственноручно ордер на его арест. Боясь «гнева цезаря», его не отправили в «Матросскую Тишину» к остальным коллегам, а спрятали в камере смертников непосредственно в подвалах Лубянки. Задача была проста – выбить нужные показания против Абакумова по «делу врачей – сионистскому заговору». Евгений Петрович понимал, что предъявленные обвинения – ложь, но признайся в причастности к «банде врачей», он тут же будет развенчан в глазах Сталина. На это били Маленков и Рюмин – испачкать доброе имя генерала.
Проходили месяцы, а следственное дело по «сионистскому заговору» не продвигалось. Узники «Матросской Тишины» держались стойко, всякий раз отвергая наветы своих коллег. Абакумов вел себя с истязателями мужественно, не признавал за собой никакой вины и не оговаривал подчиненных, хотя его регулярно и тяжело избивали, лишали сна и пищи, подолгу держали в холодном карцере, не снимая кандалов и наручников. Его тошнило от усталости и побоев, он еле передвигался от разбитых и простуженных в холодильнике коленных суставов. В карцере ему в день давали кусок черного хлеба и две кружки некипяченой воды. А истязания продолжались…
Об одной из форм пыток рассказывал сам Руденко председателю Верховного Суда СССР В.Теребилову. Последний вспоминал, что «он (Руденко – авт. ), видимо, имел в виду случаи, когда, например, допрашиваемого подследственного раздевали и сажали на ножку перевернутой табуретки с тем, чтобы она попала в прямую кишку…». Если это правда – то это же средневековье. Неужели наши старшие товарищи были такие жестокие, хотя ментально, по-христиански, должны быть терпимы, да и воспитывалось большинство из наших недавних предков на примерах высокой морали и влиятельной нравственности. Жестокое время рождает жестокость, а она, как всякое зло, не нуждается в мотивации – ей нужен лишь повод. Жаждешь крови? Стань гнидой, мерзостью, скотом.
«Расстреляют, не выпустят меня отсюда, с этого каменного мешка, ни Сталин, ни Маленков, – печально размышлял Виктор Семенович. – Если факт не сдается, его уничтожают. Кто-то старательно топит меня. Но я – солдат, а Маленков, Хрущев, Берия – политиканы. Солдат может потерять только жизнь, а политик – все… А вообще-то на кладбище всех ждет одиночество, вечное одиночество и цветы запоздалые. У меня отнимут и это. Вожди привыкли эксплуатировать проклятую человеческую надежду – эту мать дураков. Человеческая надежда одна из благороднейших. Проклятою и матерью дураков ее делают те, кто эксплуатирует чистейшую веру человеческого сердца. Конечно, можно остановить эту дичайшую эксплуатацию из всех эксплуатаций, какие есть в мире. Но к кому обратиться, если из застенков тебя никто не желает слушать. Надежда умрет со мной, но я этим мерзавцам не помогу ничем: ни клеветой, ни ложью, ни просьбой, – у меня мало сохранилось сил, но остался дух. Его не удалить им… Я невиновен – буду твердить палачам до последнего…»
Он хорошо знал, что говорил в мыслях себе и об этой стае политиков…