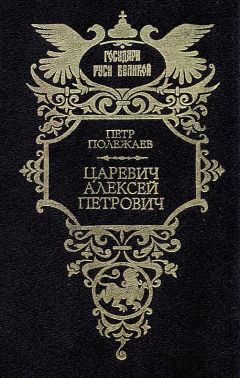Елена Никулина - Повседневная жизнь тайной канцелярии XVIII века
Столь же упорно он объяснял следователям во главе с генералом Г. П. Чернышевым, что избрание в регенты состоялось усилиями советников Анны, а он лишь, в конце концов, дал свое согласие. Свергнутый временщик настаивал на том, что напрасно никого не арестовывал и «до казенного ни в чем не касался», рассказав об источниках своих доходов. В ответ на обвинение в «обидах» и «разорениях» он попросил представить обиженных его «несытством». Свои переговоры, а иногда и конфликты с иностранными послами Бирон уверенно объяснял заботой «о российской славе».[382]
Следователи жаловались, что своего подопечного в Шлиссельбурге «сколько возможно увещевали, однако ж он, Бирон, почти во всем, кроме того, что хотел с высоким вашего императорского величества родителем, его императорским высочеством, поединком развестись, запирался». Тогда арестанту объяснили, что его «бранные слова» в адрес Анны Леопольдовны и ее мужа «довольно засвидетельствованы», и потребовали от него «все то дело прямо объявить» – в противном случае его будут содержать «яко злодея». Будучи обвиненным в оскорблении величества, «он, Бирон, пришел в великое мнение и скоро потом неотступно со слезами просил, дабы высочайшею вашего императорского величества милостию обнадежен был, то он, опамятовався, чрез несколько дней чистую повинную принесет, не закрывая ничего, а при том и некоторые свои намерения, о чем вашему величеству обстоятельно донесет ‹…›, а ежели де что он и забудет, а после ему, Бирону, припамятовано будет, и о том сущую правду покажет без утайки, и того б ради дать ему бумаги и чернил, то он ныне напишет к высоким вашего величества родителям повинную в генеральных терминах, а потом и о всех обстоятельствах».
Обнадеженный «высочайшим милосердием», Бирон 5 и 6 марта 1741 года подал новые собственноручные признания; однако никаких важных «обстоятельств», на которые надеялись следователи, они не содержали. Бирон согласился с тем, что «ближних их императорских высочеств служителей без докладу забрать велел», обещал призвать «голстинскаго принца», а дочь свою собирался выдать за принца дармштадтского или герцога саксен-мейнингенского. Он вспомнил, что называл Анну Леопольдовну «каприжесной и упрямой» и рассказывал о том, что она однажды, осердясь, бранила нерасторопного камергера Федора Апраксина «русским канальею». Наконец, арестант признал, что был недоволен, что принцесса «кушает одна с фрейлиною фон Менгденовою, а пристойнее б было с супругом своим, и оная де фрейлина у ее императорского высочества в великой милости состоит».
Но в то же время свергнутый временщик снова категорически отказывался от главного обвинения – в стремлении любой ценой получить регентство: «Брату своему, ниже Бестужеву, челобитья и декларации готовить я не приказывал; ежели же он то учинил, то должно ему показать, кто его на то привел», – и настаивал, что никаких «дальних видов» не имел и собирался быть регентом только до тех пор, «пока со шведским королем в его курляндских претензиях разделается».
Другие высокопоставленные сановники не были столь последовательны, как Бирон, в отрицании своей вины и обычно «ломались» на следствии, подобно А. П. Волынскому, валявшемуся в ногах у членов следственной комиссии. Но и он, признавшись во многих служебных проступках и взяточничестве, даже после двух пыток категорически отрицал намерение произвести дворцовый переворот: «Умысла, чтоб себя государем сделать, я подлинно не имел». Однако в таких процессах роли были уже заранее распределены.
Не столь важные персоны иногда умело отстаивали свою невиновность. Взятый под арест в сентябре 1719 года «малый» Иван Бабушкин из Зарайска боролся упорно, хотя обвинение было на редкость тяжелым и подтверждалось уликами. За месяц до того в Астрахани подьячий Григорий Емельянов «приличился ‹…› в некоторых кражах и сыскан пьян, за что ему учинено наказанье, бить плетьми, а под наказанием сказал, что он имеет важные царственные письма и есть за ним государево слово, и ведает умысл против здоровья его царского величества, и то письмо лежит у него в скрыне». Текста обнаруженного магического заговора было достаточно, чтобы возвести его автора на плаху: «Лежит дорога, через тое дорогу лежит колода; по той колоде идет сам сатана, несет кулек песку да ушат воды, песком ружье заряжает, водою ружье заливает; как в ухе сера кипит, так бы в ружье порох кипел; а он бы, оберегатель мой, по всегда бодр был; а монарх наш, царь Петр, буди проклят, буди проклят, буди проклят». Емельянов в расспросе заявил, что, будучи родом из Зарайска, нашел письмо на огороде отца Ивана Бабушкина, когда шел к ним в дом; автором же его является сам Иван, поскольку «письмо руки его Ивановой он, Григорей, знал».
Восемнадцатилетний Иван сначала, увидев въезжавших на двор драгун, испугался и кинулся бежать; несколько дней прятался на «огородах», а потом осмелел и рискнул явиться в дом, где его и взяли. Попытка скрыться также говорила против него. Но в Преображенском приказе после предъявления уличавшего его письма грамотный юноша стал защищаться, объявив: «То письмо сверх 7 строк и в 8-й строке 3 слова такие были „а монарх наш“ да в 9-й строке первое слово „буди проклят, буди прокля“ и в 10 строке „буди прокля“ всего его Ивановой руки; а в тех же 3-х строках в 8-й „царь Петр“, да в 9-й и в 10-й последние по два слова по тверду да по еру не его Ивановой руки, другой руки, приправлены они после его Иванова написания; а кто их вписал и приправил, того он, Иван, не знает». После его показаний, что «вышеписанное письмо опричь помянутых приправок писал он, Иван, своею рукою тому с год прошлого лета; а в которое число не упомнит, будучи в Зарайску в доме Строгоновых, в котором отец его с ним, Иваном, живет в верхней светлице при зарайчанине Григорье Емельянове, прозвище Кочергин, с его ж Григорьевых слов», стало ясно, что сам доносчик просил Ивана записать якобы известный ему заговор «от ружья»: «Григорий велел ему взять бумаги с чернилами; и как он чернила да бумагу взял, и Григорий стал ему сказывать, а он, Иван, писать, и написал то вышеписанное письмо, которое ныне ему показано; только в том письме в то время вышеписанных слов в 8-й строке царя Петра было не написано, велел ему тот Григорий в том месте оставить порозжее место, и он по тому его веленью то порозжее место оставил; в 9-й да в 10-й строках к концу велел написать „прокля“, а твердо с ером дописывать ему в обеих строках не велел; а для чего он вышеписанное место оставить и в дву местах по тверду да по еру дописывать не велел, того он, Иван, не ведает; так же в том письме „монархом“ кого он, Григорий, велел ему написать, он, Иван, не знал, да и Григорий о том ему не сказал же и не ростолковал, и по се число о том, чито зовется монарх, не знает».
Это «опознаванье» показалось чиновникам приказа основательным. На очной ставке с доносчиком Иван свои показания подтвердил, а подьячий, напротив, заявил, что Иван его «клеплет напрасно», а письмо он действительно поднял на его огороде. Единогласия достигнуто не было – стороны остались при своих показаниях. Но после очной ставки караульный капитан Максим Мошков доложил, что Емельянов стал нервничать: «драл на себе волосы и являет себя, будто он во исступлении ума своего с притвором или сущею болезнью, познать мне невозможно, чтоб о том повелено было освидетельствовать». Врачебная экспертиза в лице «оптекарского лекаря» Прокофия Серебрякова установила: «Ныне в нем, Григории, болезни никакие нет, и телом своим всем он здрав; а скорбь объявляет он в себе своим притвором».
На новой очной ставке «в застенке до пытки» коварный подьячий, испугавшись, признался в своем умысле «подставить» Бабушкина-сына: «А то де письмо ему Ивану Бабушкину он, Кочергин, писать велел по своему вымыслу для того: в прошлых годах отец его, Кочергина, зарайчанин посадский человек Емельян Кочергин у Иванова отца у Василья Бабушкина занимал денег 100 рублев в кабалу и те заемные его деньги ему Василью Бабушкину заплатил все сполна, и Василий Бабушкин отцу его заемной его кабалы не отдал, так же и отписи в приеме тех денег не дал же. И по тому его вышеписанному Ивана Бабушкина написанному письму он Григорий Кочергин впред его Ивана Бабушкина и отца его Василья хотел устращивать, чтоб он, Василей Бабушкин, вышеписанную заемную кабалу на отца его Емельяна выдал; а как бы тое заемную кабалу выдал, и то его Иваново письмо хотел он отдать им, Бабушкиным ‹…›. А в первом де роспросе так же и с первой пытки он, Гришка, сказал, будто то вышепомянутое письмо его Иваново Бабушкина он, Гришка, поднял на огороде Василья Бабушкина и, познав в том письме его Иванову руку, хотел с тем письмом ехать в Санкт Питер-Бурх и объявить его царскому величеству самому, а против Ивановых слов Бабушкина в том, что то письмо писано в доме Василья Бабушкина с его, Гришкиных, слов, а не на огороде поднято, заперся и совершенной правды о том по се число не сказал по вышеписанной злобе на Василья Бабушкина».[383] Свое признание неудавшийся шантажист подтвердил на дальнейших допросах – но уже, как полагалось, «с трех пыток и с огня»; после чего отправился в Сибирь битый кнутом и с вырванными ноздрями.