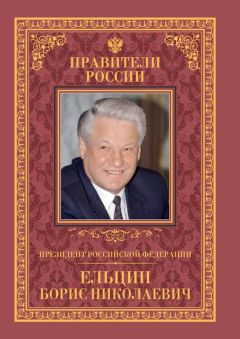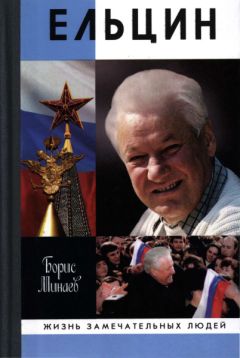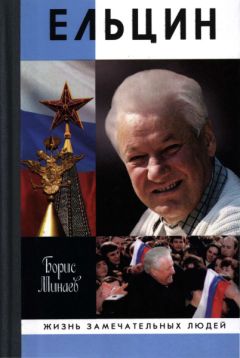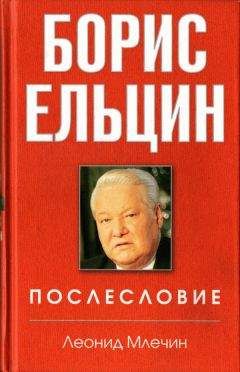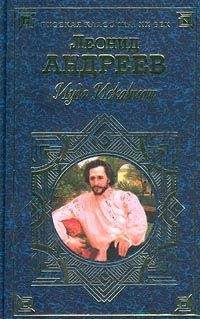Шарль Диль - Византийские портреты
Вопрос о соединении церквей, постоянная мечта и желание пап, со своей стороны, затягивал Византию в дела Запада в течение XII и XIV веков. Как ни слаба была тогда Греческая империя, тем не менее союзом с ней не приходилось пренебрегать. Противники Рима, как, например, Фридрих II, домогались его для противодействия римскому первосвященнику; в свою очередь папы прибегали к нему в целях обуздания честолюбия королей Неаполитанских. Предмет вожделений латинских князей, а также корыстных посяганий пап, Византия времен Палеологов и Комнинов непрестанно, и не без тревоги, обращала свой взор на Запад.
Но влияние латинян на греческий мир сказалось в особенности в явлениях социальных. При дворах Запада, в Германии, Италии, Франции, василевсы искали себе жен, достойных подруг своему величеству. Мануил Комнин женился на немке, графине Берте Зульцбахской, свояченице короля Конрада III, и по смерти этой принцессы он и вторую жену берет среди тех же латинян; выбрав было сначала Мелисенду Триполийскую, он в конце концов остановился на Марии Антиохийской, самой прославленной красавице во всей франкской Сирии. Сын Мануила, Алексей II, женился на сестре Филиппа-Августа, Агнессе Французской. Позднее Иоанн Ватац женится на Констанции Гогенштауфенской, Андроник II на Иоланте Монферратской, Андроник III сначала на Агнессе Брауншвейгской, затем на Анне Савойской; Иоанн VIII первым браком женат был на одной итальянской принцессе. Точно так же франкские государи Сирии и Эллады охотно женились на царевнах императорского дома Комнинов или Палеологов. Следуя примеру столь важных особ, более мелкие владельцы, рыцари и люди среднего сословия, поступают так же, и на всем латинском Востоке образуется раса метисов, полугреков-полулатинян, называемых гасмулями и образующих как бы звено между двумя цивилизациями.
Надо ли упоминать о путешествиях латинян в Византию или о поездках византийских царей на Запад? В конце XIV века Иоанн V посещает Италию и Францию, а его сын Мануил II несколько позднее отправляется в Венецию, Париж и Лондон; в XV веке Иоанн VIII проводит некоторое время в Венеции и Флоренции. Но в особенности от этих постоянных сношений преобразовался ви-{235}зантийский двор, появились другие нравы, иные увеселения, иные празднества, завелось более рыцарское обращение, сделавшее греков соперниками западных воинов. Обратите внимание, чтобы ограничиться одним примером, что представляет из себя такой император, как Мануил Комнин. Он так же безумно храбр, так же смел и отважен, как латинские бароны; подобно им, он любит всякий спорт, охоту, турниры, охотно вступает в бой на копьях с лучшими франкскими рыцарями. Как истый паладин, он хочет заслужить любовь своей дамы искусным ударом меча, и один греческий летописец рассказывает, что жена его с радостью заявляла, что, хотя она и родилась в стране, где хорошо знали, что такое храбрость, тем не менее она никогда не встречала более совершенного рыцаря, чем ее муж. Когда в 1159 году Мануил прибыл в Антиохию, он восхитил всех латинских баронов своей величавой внешностью, своей геркулесовой силой, своей ловкостью на поединках и великолепием своего вооружения. На турнирах, продолжавшихся восемь дней на берегах Оронта, византийская знать состязалась с франкской в мужестве и изящной воинственности. Сам император на великолепном коне, сплошь покрытом золотой попоной, появился на арене и среди сверканья копий, хлопающих знамен, уносимых мчащимися конями, "на этих игрищах, где, - как говорит один летописец, - было столько разнообразного изящества, что казалось, Венера вступила в союз с Марсом и Беллон с грациями", царь одним ударом сразил двух из наилучших латинских рыцарей. Бега Ипподрома, некогда так страстно любимые в Константинополе, были теперь заменены турнирами, а при снаряжении византийских войск стали входить в употребление военные одеяния Запада. Сохранились описания борьбы на копьях, производившейся в присутствии прекрасных придворных дам, и этими описаниями мы обязаны самому императору Мануилу. И среди латинских советников, которыми он любил себя окружать, стоя во главе солдат, набранных на Западе, при дворе своем устраивая постоянно празднества и увеселения во вкусе латинян, Мануил Комнин действительно казался монархом земли франков. Латинские летописцы Сирии, не находящие для него достаточно восторженных похвал, несомненно, признали его за своего, и это представляет красивую, вполне рыцарскую черту, ясно показывающую, как многому научился этот византийский царь благодаря сношениям с западным миром. Во время этого же путешествия в Сирию однажды на охоте лошадь короля Балдуина Иерусалимского понесла, и всадник, выбитый из седла, вывихнул себе руку. Тогда Мануил - тут для верной оценки этого факта следует вспомнить всю строгость этикета относительно всякого шага императора, Богу подо-{236}бного, - слез с лошади, стал перед латинским королем на колени и, так как у него были некоторые сведения по хирургии, сам наложил первую повязку; и покуда король был болен, император ежедневно собственноручно перевязывал ему рану, к крайнему удивлению придворных, которые не могли в себя прийти, видя такое нарушение церемониала.
Можно было бы привести много других западных обычаев, точно так же вошедших в привычки и даже в судебные нравы Византии. В этой стране, где в течение стольких веков суд совершался лишь на основании писаных законов и свидетельских показаний, в XII веке судебный поединок, как и у латинян, является доказательством или опровержением обвинения, а испытание огнем предлагается подсудимым для оправдания себя в публичном или частном преступлении. Теперь ревнивый муж, желая уличить жену в прелюбодеянии, прибегает к суду Божьему, а не к своду законов Юстиниана; тем же испытанием огнем предлагают Михаилу Палеологу, побежденному на поединке своим обвинителем, очиститься от обвинения в государственной измене. Точно так же к Божьему суду прибегают начальники стоящих друг перед другом войск, когда обращаются один к другому с вызовом и предлагают решить спор на бранном поле один на один. Если, наконец, хотят еще по другим примерам судить о глубине влияния этих рыцарских нравов, можно найти разительные тому доказательства в произведениях народной литературы.
У византийцев XIII и XIV веков, по-видимому, был крайне развит вкус к романам, где описывались всякие приключения. И вот некоторые из подобных произведений, несомненно, вдохновлены сюжетами, очень хорошо известными в литературе Запада; и даже те из них, которые чисто восточного происхождения, вследствие сношений с франками, приняли вполне латинскую окраску. Позднее, при изучении некоторых из этих любопытных произведений, как, например, Белтандр и Хрисанца, Ливистр и Родамна, будут видны несомненные следы этого влияния. Это истории о странствующих рыцарях и прекрасных принцессах, рассказывающие о бесчисленных турнирах и удачных ударах меча; как у трубадуров или миннезингеров, почтение к феодалу является в них необходимым общественным звеном, "турнир любви" - первой обязанностью паладина. Нигде лучше не видно смешения мод, нравов, обычаев, происшедшего тогда на Востоке и придавшего этому смешанному обществу столько живописного и странного. Но вот что еще замечательнее. Под влиянием Запада в Византии, всецело пропитанной античными традициями, герои самой Илиады преобразуются в паладинов. Как в наших chanson de geste, Ахилл превращается в прекрасно-{237}го рыцаря, скитающегося по свету со своими двенадцатью товарищами в поисках приключений, в победителя на турнирах, в любовника прекрасных принцесс, в христианского паладина, который умирает в Троянской церкви, изменнически умерщвленный Парисом.
IV
Значит ли это, однако, что благодаря несомненному смешению обеих цивилизаций и отношениям, порожденным крестовыми походами, уничтожилось или хотя бы ослабилось коренное и глубокое недоразумение, о котором было говорено выше? Никоим образом.
Прежде всего, лишь в избранное общество могли проникнуть нравы Запада. Народные массы оставались в данном случае совершенно невосприимчивы, а равно и греческая церковь. В то время как политики, дипломаты, важные особы, из расчетов или по симпатии, сближались с латинянами, в народе, более их страдавшем от этого насильственного вторжения чужеземцев, от беззастенчивой эксплуатации итальянских торговцев, в духовенстве, испуганном и скандализованном возможностью сближения с Римом, чувствовалось, наоборот, все возраставшее недовольство. Политические опасения, соперничество в торговле, затруднения религиозные - все это, вместе взятое, явилось причиной обострения векового несогласия, что сделало еще более неосмысленной и фанатичной закоренелую злобу. Это становится очевидным, если принять во внимание внезапные вспышки ненависти, взрывы яростной страсти, вследствие которых византийская чернь не раз набрасывалась на ненавистных латинян, в особенности если вспомнить трагический день 2 мая 1182 года, когда итальянский квартал в Константинополе был предан огню и разграблению возмущенной толпой, когда духовные и светские, женщины и дети, старики и даже больные, находившиеся в больницах, были беспощадно преданы смерти разъяренной толпой, радостно мстившей в один день за столько лет глухо клокотавшей злобы, темной зависти и непримиримой ненависти.