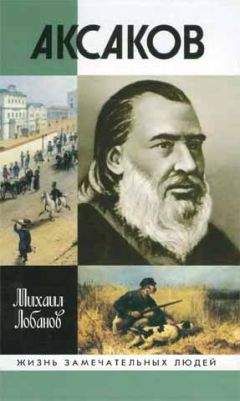Михаил Лобанов - Оболганная империя
Не так невинно выглядела эта "галломания", "англомания" и прочее. Как мы назовем человека, который отрекается от своей матери, от своих родителей? Не меньшее, а еще большее, может быть, падение, когда человек отрекается от своего народа, от его языка, стыдится его, как чего-то позорного, низкого, недостойного его. Сколько было таких блудных сыновей, русских иностранцев, вообще добровольных рабов Запада, по-холопски унижавших все русское. Умаление всего родного, неуважение к своему народу, его истории, великому языку было оскорбительным для СТ. Аксакова. В этом и было то "чувство национальности", которое так много говорило ему и как человеку, и как художнику и без которого не было бы его замечательных творений.
Центральным пунктом расхождения между славянофилами и западниками стал вопрос об отношении России к Европе: должна ли она, Россия, следовать по пути Запада или у нее свой, самобытный исторический путь. С подлинным драматизмом выразилось это расхождение в истории взаимоотношений между "неистовым" Виссарионом Белинским и столь же "неистовым" Константином Аксаковым, семилетняя дружба которых завершилась разрывом. Уже в кружке Станкевича (названного именем его вдохновителя Николая Станкевича, рано скончавшегося, двадцати семи лет от роду) царило разномыслие, кипели споры. Впоследствии в "Воспоминаниях о студентстве" Аксаков скажет о кружке, о своем месте в нем: "В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир - воззрение большей частию отрицательное... я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно: в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с малых лет" [13]. Высоко ценя семью Аксаковых, самого Константина, которого он называл "одним из малолюдной семьи сынов Божьих", отдавая должное заслугам славянофилов, которые впервые поставили перед обществом вопрос о русском национальном самоопределении, Белинский резко не принимал в Аксакове того, что он называл "неподвижностью", что было традиционным, православно-народным в России. Сам он, Белинский, в последний период своей, обильной идейными "переворотами", короткой жизни, был одержим отрицанием "гнусной действительности", духом революционности, с чем, конечно, не мог примириться Аксаков.
Но были западники, которые в отличие от Белинского, искренне искавшего истину, любившего Россию, смотрели на "эту страну" как на чуждый им мир, достойный презрения и даже не имеющий право на существование. Например, для В.Боткина, полжизни проведшего за границей, в Италии и Париже, русский народ был вроде папуасов, и Россия - погрязшей в невежестве. И никогда не переводились в России духовные дезертиры вплоть до современных диссидентов, вроде Синявского с его угрозой "России-суке", А.Зиновьева, автора оголтелого русофобского опуса "Зияющие высоты", который, даже вернувшись в 1999 году после двадцатилетней эмиграции в Россию, повторяя свои неизменные заклинания: "Россия обречена, погибла", признается, что больше его тревожит "судьба западноевропейской цивилизации". Ибо он "прожил всю свою жизнь человеком, до мозга костей принадлежащим к западноевропейской цивилизации", что многие его сверстники формировались как "люди западноевропейские, а не национально-русские - в эти отношения я ушел дальше многих других" [14]. Здесь же автор ставит в заслугу себе то, что он "не обрусел". Но вот возникает вопрос: что может значить для самих "цивилизованных европейцев" такие неофиты. У Достоевского есть статья "Мы в Европе лишь стрюцкие": "Вы начали с бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только... И чего же мы достигли?" - спрашивает Федор Михайлович этих "перерожденцев" и обобщает: "Чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих... Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (les tartars) никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками" [15]. "Русские европейцы" - это и стрюцкие (стрюцкий - по объяснению слова человек подлый, дрянной, презренный) и "международная обшмыга" - по другому выражению Достоевского.
И Константин Аксаков величайшим бедствием России считал отрыв высших, образованных слоев общества, того слоя, который позднее будет называться интеллигенцией, - от народа, возникшие в результате этого разрыва глубокие противоречия между ними грозят катастрофой России.
Что такое народ для Константина Аксакова и что такое в сравнении с ним, народом, представители высшего сословия - можно судить по его статье "Опыт синонимов. Публика - народ", в которой с афористичной выразительностью противопоставлено одно понятие другому: "Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. У публики - парижские моды. У народа - свои русские обычаи. Публика (большей частью по крайней мере) ест скоромное, народ ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и работает... Публика презирает народ; народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь, но в публике грязь в золоте, а в народе - золото в грязи... Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас почтеннейшая, а народ православный".
Во всем, о чем бы ни размышлял Константин Аксаков, чего бы ни писал в какой угодно области, будь то филологические изыскания, литературная деятельность в виде драм, критики, публицистики, исторические труды - везде и всегда дышит задушевнейшая мысль о народе как главной исторической силе. В стихах Аксакова остался не только пафос его любимой мысли о народе, но в иных и такие стороны, которые, может быть, как никогда многое говорят современному сознанию. Огромную опасность для человека он видел в бездуховности. Для "толпы эмигрантов" (из одноименного стихотворения) не существует никакой высшей истины, кроме "осязательного пути", кроме только материального. Но зло гнездится еще глубже - это "вещественное", "плотское", не вынося пустоты своего эмпирического существования, хочет "в дух втесниться", принимает обличье "лже-духа" (одноименное стихотворение), в котором лишь
...Плоти раздраженной жар:
Ей мало вещества для власти,
Ее пленяет духа дар,
Небесный мир в ней будит страсти.
"Лже-дух" претендует уже на универсальность бытия, ему мало "вещественной" власти над человеком, он хочет контролировать в нем и вседуховно-сокровенное, интимное, хочет стать для него всем, а в сущности ничем. Искус этого лже-духа особенно велик оттого, что, легко внедряясь в бытийные низы человека, он эти низы "освещает" доводами рассудка, некой научности, принимающей только "осязательный путь" и освобождающей человека от его духовных, нравственных задач. Константин Аксаков и в современной ему литературе видел такую "точку эмпириков", самоуверенных, рассудочных, посмеивавшихся, кстати, над его чудачествами.
Бердяев в своей книге о Хомякове назвал ранних славянофилов бытовиками, крепко связанными с устойчивым бытом, лишенными катастрофического ощущения бытия, Психологически славянофилы менее всего были укоренены в быте. Если нельзя не увидеть трагическое в самом бытии человека, мучительно раздвоенного между осознанием христианского идеала и невозможностью достигнуть его на земле, то в высшей степени трагической была жизнь славянофилов. Ибо в отличие от западников, так сказать, детерминированных преимущественно социальной средой, основным двигателем учения, поступков славянофилов была мораль, принцип единства мысли и поведения. Нравственная безупречность славянофилов была такова, что даже сами их противники - западники, либералы, писали об их редчайшем благородстве. Глубочайшая разница была в том, что западников больше занимало "общественное зло" (запрет свободы, слова, крепостное право), в то время, как славянофилы неизмеримо глубже видели природу зла прежде всего в самом человеке, устремляя главные свои усилия на самоусовершенствование (что не мешало им, однако, не быть равнодушными и к общественному злу - характерно, что именно славянофилы в лице Ю.Самарина и других готовили проект освобождения крестьян 1861 года). Далеко от бытовой идиллии была и личная жизнь этих людей, знавших и тяжелые утраты (смерть молодой жены Хомякова, оставившей на его руках пятерых малых детей), и бездны аскезы (уход в Оптину пустынь Ивана Киреевского).
Но, пожалуй, никто из этих людей не был так духовно беспощаден к себе и последователен в прямоте духовно-нравственного выбора, как Константин Аксаков, чистота которого доходила до того, что, не создав собственную семью, он умер девственником, В писаниях своих он был тем же, что и в жизни: братски близок ему был тот,