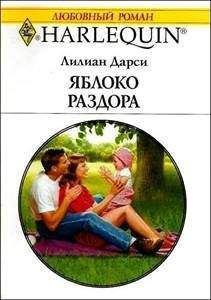Александр Мясников - Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР
Что касается Филадельфии, то город мне понравился сочетанием старины (еще колониального периода), старых зданий в английском стиле и памятников и новых легких высотных домов из дюралюминия и стекла. Мы посетили Independence Hall, построенный в первой половине XVIII века, в котором в 1776 году была оглашена независимость колоний и через десять лет – конституция Соединенных Штатов. Это скромное двухэтажное здание с высокой красивой каланчой, с часами и колоколом (символом свободы). Мы осмотрели Carpenters Hall, в котором в 1774 году заседал первый конгресс нового государства. Снизу, с узкой Брод-стрит, идущей с севера на юг, мы глядели на гигантскую статую Уильяма Пенна (от него – название штата Пенсильвания), казавшуюся нам каким-то лилипутом.
Из музеев сперва мы зашли в учреждение, в котором выставлен громадный макет сердца. Можно было войти в сердце, в предсердия, проникнуть в желудочки и вылезти в аорту или легочную артерию, ощупав клапаны, сосочковые мышцы и т. п. Музей этот, кажется, носит имя Франклина и должен популяризировать основные законы медицины, физики и других естественных наук для широкой публики и особенно школьной молодежи. Все-таки хорошая штука, полезно было бы и нам завести такую.
Затем мы посетили музей Родена. Это небольшой особняк, в котором выставлены многие реплики великого скульптора в бронзе и мраморе. Имеется и некоторое число оригинальных этюдов и рисунков. Особенно выделяется «Eternal Springtime», 1884 («Вечная весна»): юноша и девушка, слившиеся в поцелуе. Некоторые поздние вещи (например, The Cathedral, 1910 – две руки, якобы символизирующие готический храм, или «Рука бога») мне не понравились. Вообще и нельзя сравнивать с музеем Родена в особняке Бирона в Париже.
Но зато филадельфийский музей искусства содержит прекрасное собрание картин. Само здание – в классическом стиле, с великолепной колоннадой (между прочим, перед ним стоит эффектный памятник Вашингтону). Большая часть собрания – новая живопись, наряду с Сезанном, Пикассо немало Леже, Миро и многочисленные американские современные абстракционисты.
Естественно было посмотреть Пенсильванский университет. Среди медиков большое впечатление произвел известный хирург Бейли [224] , работающий в еврейском госпитале. Впечатление это оказалось скорее жутким.
Бейли пригласил нас на операцию с искусственным сердцем. Фермер 35 лет, здоровый на вид, решил предоставить свою грудь для операции по поводу аортального стеноза, вполне, впрочем, компенсированного. Кажется, он еще уплатил знаменитому хирургу немалую сумму – чтобы делал тот сам. Мы стояли в халатах вокруг операционного стола. Бейли быстро резал и весело объяснял. Вокруг персонал – по большей части молодой, обоего пола – управлял насосом крови, системой трубок и приборами, регистрирующими состояние кровообращения. Царила небрежная уверенность. Мне даже показалось, что так оперируют собак в экспериментальных лабораториях. Вдруг приборы стали давать беспокойные показатели – упало давление, по временам вспыхивало мерцание предсердий. Бейли перестал болтать, но молодежь продолжала галдеть. Через полчаса от начала операции фермер умер. Бейли почти одновременно с нами вышел, мы в одну сторону, он – в другую, молча.
С того дня я не могу читать спокойно хвастливые статьи о блестящих операциях. Мне кажется, что слава хирургов, по крайней мере хирургов-кардиологов, подобна славе полководцев – как та, так и другая клубится над горами трупов. И ведь моральное оправдание их жертв – одно и то же, а именно якобы благо других (ценою погибших).
...Мне кажется, что слава хирургов, по крайней мере хирургов-кардиологов, подобна славе полководцев – как та, так и другая клубится над горами трупов
Из Филадельфии мы приехали в Вашингтон, но от этой поездки у меня остались лишь смутные воспоминания. Мы просто мельком посмотрели город. В это время года цвела японская вишня; ее розовая пена залила парк, блистая на солнце ажурными гроздьями цветущих веток и отражаясь в водной глади Потомака. А. Л. Логофет стал вспоминать весну в России, робкую, изменчивую, более тонкую. «А ведь эта вишня не дает плодов, а цветы здесь вообще не пахнут», – сказал он грустно.
Потом мы отправились в Бостон. В аэропорту нас встретил Пол Уайт – он прошел прямо к самолету и обнял нас. Это обаятельный человек, и я горд тем, что он ко мне всегда проявляет симпатию. Познакомились мы осенью 1957 года в Москве, он приезжал тогда к нам впервые – с группой американских врачей, – был в Институте терапии (еще на Щипке), где я, с помощью И. И. Сперанского, рассказывал им о наших работах по атеросклерозу. Был он в клинике, где пожелал сделать обход и мельком выслушивал сердца больных, расспрашивал об их профессии и записывал (рабочий, инженер, студент, служит в министерстве, инвалид и т. д.). Уайта поразило столь значительное преобладание женщин среди наших врачей; он сказал потом, что сперва принял их за сестер или нянь. Какие-то фотографы ходили за нами и снимали знаменитого Уайта, личного врача и друга Эйзенхауэра (это были сотрудники иностранных газет и американского посольства), а я боялся, что они наснимают грязные уборные, мусор под окнами, обвалившуюся кое-где штукатурку.
В Бостоне Уайт показал нам, что он снимал. Кинолента (цветная) показала собравшимся – нам и его американским знакомым – Кремлевские соборы и башни, Большой театр, старый и новый университет, нашу клинику, Красную площадь и очереди москвичей, покупающих не мясо и не молоко – а цветы. Ни заборов, ни давки. А ведь при наклонности американцев и англичан к юмору отчего бы и не снять что-нибудь такое «экзотическое»?
На даче у Уайта (километрах в 30 от Бостона, он водит сам машину, несмотря на годы, другую – его жена) собралось академическое общество – профессора Гарвардского университета с женами. Среди них был Лепешкин, еще не забывший свой безукоризненный русский язык (я замечаю, что русские, живущие за границей и попавшие туда взрослыми, притом из культурной среды, говорят, как правило, на более совершенном русском языке, нежели мы, воспитанные на современном жаргоне, которым заражают нас наши дети, молодежь и т. п.); это – известный электрокардиографист, автор больших книг. Жены профессоров казались мне обычными воспитанными дамами, это были уже почтенные по возрасту женщины. Миссис Уайт выделялась среди них: было видно, что в молодости она была красавицей в стиле английских портретов; она всегда представлялась мне очень симпатичной и несколько восторженной, гордой за своего славного мужа, притом подлинно культурной, с любовью к серьезной музыке, жадным интересом к странам и людям, которые ей приходилось на своем веку изучать в связи с постоянными путешествиями непоседливого, живого Пола Уайта.
В Бостоне нас устроили в весьма респектабельном клубе ученых; в старинной английского типа столовой чинно «обслуживали» (как это слово не подходит здесь!) высокие мужчины в белоснежных манишках с манжетами и сверкающими запонками.
Были мы в старом Массачусетсе – одной из клинических баз Гарвардского университета. В аудитории клиники, которой раньше заведовал Уайт (теперь он консультант) мы присутствовали при разборе больных; случаи были не очень трудные, большое внимание уделялось диагностике (висели многочисленные рентгенограммы и электрокардиограммы), вопросы теории не обсуждались. Раза два спросили мое мнение. Один мой ответ, видимо, был совсем мимо (как я уже позже сообразил), другой же попал в точку и все оживились, стали со мной немного спорить, потом соглашаться и расстались, как-то сблизившись (так сказать, на общем деле).
Потом повели нас по лабораториям, оставившим впечатление хорошо, интересно работающих над важными темами (культура ткани интимы аорты – в норме и при атеросклерозе, атеросклероз у обезьян, зондирование коронарных артерий на собаках – с вживлением зонда и возможностью вливать через него прямо в коронарную сеть те или иные лекарства и т. д.). В дальнейшем авторы этих работ побывали у нас в Москве, или мы воспользовались у себя их методами.
Далее – специально идя навстречу моим интересам – Уайт повез нас в музей живописи, директор музея показывал Рубенса и Рембрандта (которые мне не понравились – неприятные типажи), но зато понравился мальчик в шляпе Томаса Сюлли (американского художника XIX века); несколько пейзажей Моне, задумчивая гавань Уистлера в серо-серебряной дымке и знаменитый «Почтальон Рулен» Ван Гога. Мне дали каталоги и репродукции.
Затем мы отправились на лекцию Смита – известного специалиста по физиологии почек, приехавшего из Нью-Йорка. Мы чуть-чуть запоздали. Огромная аудитория была переполнена. По просьбе Уайта нам уступили места в первом ряду, мы сели, смущенные, а сам знаменитый клиницист всунул свою худенькую фигурку между сидящими на ступеньках лестницы парнями неподалеку от нас. Смит читал свой доклад с иронией. Он говорил, что чем дальше он занимается физиологией почек, тем ему она становится все менее и менее ясной. «Я написал толстую книгу, но если бы я действительно понимал данную проблему, не было бы надобности столько рассуждать. Механизм мочеотделения поясняют уже двести теорий; если бы он был открыт, была бы лишь одна».