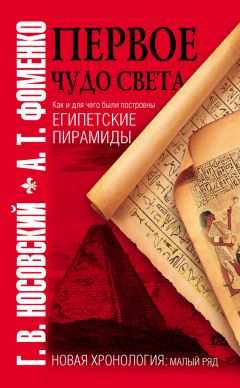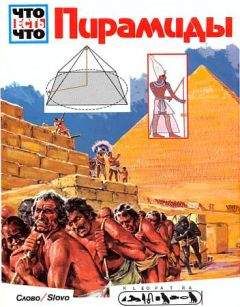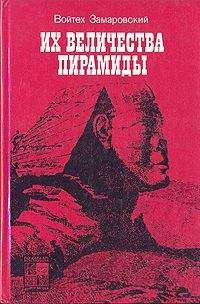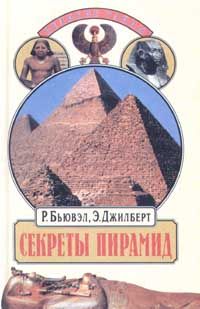Борис Джонсон - Лондон по Джонсону. О людях, которые сделали город, который сделал мир
При той славе и любви публики, которой пользовалась Мэри Сикоул, при поддержке некоторых членов королевской семьи — ее не удостоили аудиенции, и это очень странно. Кто-то, должно быть, отравил отношение к ней королевы, и этим кем-то (так говорит Раппапорт) была конечно же Флоренс Найтингейл.
По возвращении из Крыма «леди с лампой», как называли Найтингейл, сразу же вызвали в замок Балморал, летнюю резиденцию королевы. Последовал ряд обедов, на которых ее величество расспрашивала про войну и тяготы медсестринского труда. В какой-то момент этих бесед королева, должно быть, спросила о Мэри Сикоул, и, похоже, Флоренс отозвалась о ней плохо.
Существует письмо Найтингейл шурину, члену парламента от либеральной партии сэру Гарри Верни. Вверху его стоит пометка «по прочтении сжечь», которая позволяет предположить, что прочие подобные комментарии были уничтожены. Сикоул была «очень добра к солдатам, — писала Флоренс, — и делала доброе дело». Но была одна проблема — алкоголь. Мэри «поила многих», и хотя Флоренс не отважилась утверждать, что «Британский отель» Сикоул был «нехорошим заведением», он, по ее словам, «недалеко от этого ушел». И затем она вколотила последний гвоздь: «Любой, кто возьмет на работу миссис Сикоул, найдет с ней много доброты — но и много пьянства и неподобающего поведения».
Мы уже никогда не сможем этого доказать, но такое подозрение существует: беднягу Мэри Сикоул лишили этой высшей почести — аудиенции ее величества, каких-то теплых слов, эмалированной железной безделушки, приколотой на ее пышную грудь, — потому что ее исподтишка оговорила Флоренс Найтингейл.
Что с того, что у нее солдаты напивались ее «фирменным» кларетом с пряностями? Что с того, что в «Британском отеле» ей помогала ее миловидная незаконная дочь? Что с того, что некоторые французские офицеры, напиваясь до чертиков, приставали и пытались ущипнуть за задницу?
Мэри была энергичной, предприимчивой женщиной и принесла столько добра сотням раненых солдат. И все-таки я думаю, что можно простить Флоренс Найтингейл, если, конечно, она действительно виновата в том, в чем ее обвиняют. С невероятной верой в себя, свойственной величайшим представителям Викторианской эпохи, она стремилась изменить мир. Она хотела радикально изменить взгляд людей на мед обслуживание и на женщин, и прежде всего добиться серьезного отношения и к женщинам, и к профессии медсестры.
Дело не в том, что она так уж хотела быть самой-самой или единственной «матерью британской армии» (хотя, наверное, не без этого). И дело не в том, что сама она терпеть не могла алкоголя и секса (хотя это могло повлиять на ее отношение к Мэри).
Алкогольные и прочие шалости Мэри Сикоул бесили Флоренс потому, что принижали высокую цель, к которой она стремилась. Кто хочет, может убедиться, что на самом-то деле она восхищалась своей бойкой черной коллегой: есть данные, что Найтингейл довольно щедро жертвовала в фонд Сикоул, но… анонимно. Внешние приличия в те времена много значили.
А сегодня почитатели Мэри Сикоул предлагают воздвигнуть в ее честь памятник на территории больницы Св. Фомы — той самой, где Найтингейл организовала свою первую школу медсестер.
Большинство же лондонцев относились к алкоголю в духе Сикоул. Конечно, по количеству пабов на душу населения столица не могла тягаться с Бирмингемом или Манчестером, пьяными вдрызг, но все равно, стоило пройтись по Уайтчепел-роуд — и сразу встретишь штук сорок пять пивных, по одной на каждом углу Хотя в паб ходили не только затем, чтобы пропустить рюмашку (или кружку).
Туда шли за медицинским советом, за кредитом, в поисках работы, удачных сделок, заниматься профсоюзной агитацией, устраивать политические дебаты, а также за проститутками, за сплетнями, за теплом, едой и выпивкой. Туда же отправлялись за газетами, которые тогда читали везде и в огромных количествах. Их читали в автобусах и в необычном новом метрополитене, во время дешевого завтрака за два пенни в кофейнях и столовых, которые росли как грибы по всему городу. Лондонская пресса сыграла славную роль в волнениях XVIII века, публикуя такие грубые и грязные порнокарикатуры, какие сегодня никто ни за что не напечатает.
Но во второй половине XIX века большинство лондонских газет, честно говоря, стали посерьезнее. У. Г. Расселл и газета The Times немало сделали, чтобы раскрутить скандал из-за жутких условий в госпитале Скутари — что и принесло Флоренс Найтингейл общенациональную славу. Но в целом пресса преисполнилась викторианского достоинства и деловитости.
Чтобы снова оживить лондонскую журналистику, пришлось немало попотеть, и был один человек, который потрудился как никто другой. Это был пионер разоблачительной журналистики — беспринципной и циничной, — которая и сегодня, несмотря на угрозы политиков, жива в Лондоне. Это он первым в мире придумал такую форму: большое скандальное расследование на страницах таблоида, то есть желтой газетенки — броские заголовки, сомнительные цитаты, репортеры, выдающие себя за другого, и все такое. А по завершении — дружные всенародные охи-ахи по поводу журналистской «этики».
Чу! Я в болезни бреде
Вдруг вижу с лампой леди.
Она сквозь мрак проходит,
Своих больных обходит.
ДЖОЗЕФ БАЗАЛДЖЕТТ… И КАНАЛИЗАЦИЯ
Здорово было наблюдать, как юморист Дэвид Уэльямс, чтобы заработать кучу денег на благотворительные цели, проплыл вниз по Темзе до самого устья. Смелый парень. Но, если бы он сделал это в середине XIX века, это было бы просто самоубийство. Река была хуже, чем сточная канава. Она была биологически мертва. Ни рыб, ни тритонов, ни утят — они бы не выжили в гнусных стоках растущего города. Река, которая дала Лондону жизнь, стала источником смертельной отравы для людей.
Осенью 1848 года случилась самая страшная вспышка холеры за всю историю города — умерло более 14 000 человек. В то время как Флоренс Найтингейл и другие твердо верили, что инфекция распространяется по воздуху или через грязные простыни, один лондонский доктор по имени Джон Сноу думал иначе. Он изучил точечную карту местожительства умерших и обнаружил, что все жертвы в районе Сохо проживали рядом или пользовались одной конкретной водяной колонкой на улице Брод-стрит, — и сделал вывод, что эта колонка и есть источник заражения.
Он предположил, что болезнь вызывает зараженная питьевая вода, а то, что вспышка холеры происходит после систематического слива нечистот из сточных ям в Темзу, вовсе не случайно. Эту систему слива ввел лондонский Комитет по канализации, где помощником землемера работал некто Джозеф Уильям Базалджетт (1819–1891), внук французского иммигранта-протестанта и многообещающий инженер.
Спустя восемь лет Базалджетт был уже главным инженером нового Лондонского Управления строительством (MBW), и тут оказалось, что он разделяет идеи Сноу. Существовавшая в Лондоне система сточных канав отводила выпавшие осадки и всякую дрянь и сливала все это в Темзу. Он предложил смелое решение: сеть самоочищающихся подземных канализационных тоннелей, состоящую из 132 километров крупных каналов, в которые втекали стоки из 1600 километров новых уличных каналов. Это был инженерный проект беспрецедентного масштаба. Само собой разумеется, правительство отвергало его пять раз подряд.
Однако летом 1858 года случился Великий смрад, парламентарии испытали страшный удар по обонянию — и это решило дело. Испарения, поднимавшиеся от реки, были так ужасны, что члены парламента бежали из города. Власти сдались Базалджетту, и, заручившись одобрением своих планов, этот инженер с экстравагантными усиками взялся за дело, проявляя решительность и талант.
Он взял свой план и удвоил все цифры. Он учел численность населения города, затем тщательно подсчитал диаметр труб, необходимый, чтобы пропустить поток стоков. А потом он произнес слова, которые следовало бы произнести и строителям лондонского метро, и тем, кто выбирал место для международного аэропорта.
«Гм… — сказал он, — мы сможем сделать это только один раз, а ведь всего предвидеть невозможно». И увеличил диаметр тоннелей в два раза. Недавние исследования показали, что если бы он придерживался первоначальных расчетов, то сеть исчерпала бы свои возможности в 1960-х. Шедевр Базалджетта в неизменном виде взят за основу городской канализации по всему миру, от Нью-Йорка до Новой Зеландии.
Канализационная сеть, рассчитанная на 2,5 миллиона человек, дожила до наших дней и справляется с нечистотами 7,7 миллиона. Мы отдаем дань восхищения этому викторианцу и признаем, что только сегодня мы вновь стали строить в таких масштабах. Когда мы закончим Фарватерный тоннель — эту cloaca maxima, проходящую под дном Темзы, — мы сможем наконец вздохнуть спокойно и не бояться неописуемой катастрофы, которая нас ждет, если переполнятся коллекторы, построенные Базалджеттом. Тогда река станет безопасной не только для форели, но и для всевозможных благотворительных заплывов.