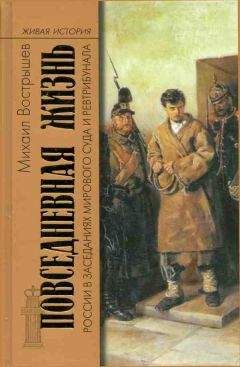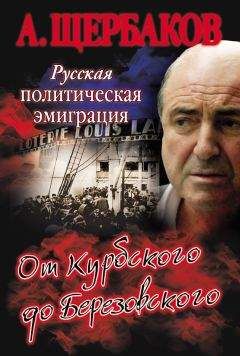Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Впрочем, старались не поддаваться мрачности, верили, что тем или иным образом, но все как-то устроится. Притяжение Парижа было неодолимо, пьянил сам воздух кварталов со старыми замшелыми стенами, от которых тянет запахом матраса, покрытого плесенью. Этот запах запомнился начинающему американскому прозаику Генри Миллеру. Он тогда жил там же, на Сене, и писал «Тропик Рака», скандальный роман, который запретили сразу после публикации полулегальным парижским издательством «Олимпия пресс».
В «Селект» и другое монпарнасское кафе — «Дом» Миллер заглядывал часто, русских, судя по роману, много было среди его знакомых, и о том, какую они вели жизнь, он рассказал красочно — зная, чувствуя материал. Тот Париж, который сделался своим городом для них всех, совсем не схож с привычным образом музея, где каждый камень пробуждает исторические ассоциации и то и дело попадаются мемориальные доски в напоминание о знаменитых людях, которые тут жили. Миллер описал что-то вроде свалки отбросов посреди исторического великолепия. Это Париж узких переулков и прямоугольных дворов, где догнивают завалившиеся деревянные сараи и копаются в помойке бледные маленькие рахитики, а кривобокие уроды глядят на них в окна сквозь никогда не моющиеся стекла. Город дешевых борделей с хрипящими механическими пианино, закопченных виадуков, пропитавшихся мазутом туманов, пансионов, битком набитых всяким отребьем, для которого вполне сойдет и комнатушка без окна. Город блошиных рынков и жестяных водостоков, которые проржавели от зимней измороси. Город, где всю ночь не гаснет сверкающее кружево электрической рекламы, над которой вознеслась тяжелая белизна церкви Сакре-Кёр на Монмартре, а сразу за нею тянутся улицы, приманивающие дансингами, биллиардными, кинотеатрами, куда забредают, чтобы согреться и подремать. Или доступными ресторанчиками — там носятся между столиками гарсоны в грязноватых передниках с карманами, рвущимися под грузом медяков.
«Париж, — писал Миллер, — имеет странное свойство: чем больше тебе здесь досталось, тем сильнее он тебя приманивает». Самому ему достались те же самые бедность и бездомность, что и тысячам таких же, как он, ненавистников скудоумия, ханжества и мещанства, которые со всего света тянулись сюда, чтобы полной грудью подышать вольностью и артистизмом. Перед самой войной он уехал в Грецию, потом домой, в США, — Миллеру, американскому подданному, это не стоило отчаянных усилий, которые прилагали его русские приятели, грезившие об Америке как об обетованной земле, куда не доберутся танки вермахта. Но своей счастливой писательской молодости он не забыл до конца дней и десятки лет спустя повторял, что всегда предпочтет парижскую жизнь будням обладателя роскошной квартиры на Манхэттене, что готов был бы в любую минуту повернуть время вспять, даже если это означает, что снова придется пересчитывать сантимы или пойти официантом в бистро со скверной репутацией.
И в самом деле его — а скольких еще! — приворожили эти кольца улиц, перерезанные неширокой рекой, эта «священная цитадель, чьи таинственные пути пролегают под нагромождением крыш», и чувство, что из окружающей гнили здесь поминутно растет живая жизнь, посверкивает художественный гений. Париж разговаривал с ним «на печальном, горьком языке, состоящем из страдания, тоски, раскаяния, неудач и напрасных усилий». Его потаенную речь Миллер мог слушать бесконечно. Не раз ему казалось, что это язык Апокалипсиса, а сам город, исхоженный до далеких окраин, открывался перед ним как безумная живодерня. Но Миллеру не нужно было объяснять, отчего Париж притягивает к себе «всех измученных, подверженных галлюцинациям, всех великих маньяков любви». Только здесь, поскитавшись по недрам цивилизации, побывав в ее преисподней, человек вдруг осознавал, что из своего путешествия он выбрался на берег совсем другим — освободившимся от страхов и от ничтожных обывательских мечтаний, приобщенным к откровениям высшего порядка, пусть никто никогда не сформулирует, в чем их смысл.
Миллер воспел Париж как вечный приют изгнанников, от Данте до Ван Гога, от Стриндберга до тех, кого после большой войны назвали «потерянным поколением». Русские монпарнасцы вписывались в этот ряд. Париж они чувствовали примерно так же, как его пережил и запомнил долговязый американец, должно быть, кое-кому из них знакомый, хотя бы шапочно. И тянулись к Парижу с такой же неподдельной жадностью, как он, яростный ненавистник всего, что отдавало буржуазностью, истинный поэт, вопреки грубой, шокирующей откровенности своих книг.
* * *На стыке бульвара Монпарнас с бульваром Распай, где кафе открыты всю ночь, всегда можно было встретить у стойки кого-то из постоянных посетителей, «монпарно», как их называли парижане. Тут толпились проигравшиеся картежники, наркоманы, бродяги, девицы, решившие передохнуть, пока не попался новый клиент. Русские поэты и художники из непризнанных давно обжили этот мир. Когда в 1936-м из-за переживаемого Францией политического кризиса кафе временно закрылись, русский Монпарнас воспринял случившееся как трагедию. Один из постоянных гостей «Селекта» и «Дома» без тени иронии писал, что это явное предвестье конца света.
Об атмосфере, царившей в этих кафе, когда русский Монпарнас переживал свою весну, вспоминали многие. Шаховской, которая жила в Брюсселе, но не упускала случая съездить в Париж, и десятки лет спустя ясно виделись прокуренная задняя комната в «Ла Болле», расположенном на улице Ласточки, чуть вбок от бульвара Сен-Мишель, неудобные скамьи вдоль стен, памятная доска, оповещавшая, что здесь бывали Поль Верлен и Оскар Уайльд (некогда, по преданию, и сам Вийон, гений французской средневековой поэзии). Вспоминались плохо одетые, голодающие молодые поэты (а наверху, где почище, — посетители в смокингах, пожелавшие взглянуть на парижское «дно»), аккордеон, апаши, танцующие со своими девицами. Преобладает меланхолия, и все-таки все готовы «часами сидеть и говорить, говорить, говорить то о важном, то о неважном».
Борис Поплавский, который провел в кафе на Монпарнасе всю свою парижскую жизнь, описывает их впечатляюще, хотя неприязненно — он слишком от них устал. Вот «Ротонда» и «Дом»: железные или плетеные стулья на тротуаре, засыпанном шелухой от земляных орехов, самодовольные богатые иностранцы, жалкая художественная богема, где все втайне презирают друг друга. Старые эмигранты, которые, кажется, сидели здесь всегда; про таких говорят, что сразу, как схлынул потоп, на Монпарнасе выросла пальма, под ней установили первый столик и за него сразу уселся русский апатрид. Пьют, смеются, сплетничают под одеревенелыми взглядами ко всему привыкших гарсонов, а потом, всласть позлословив, поностальгировав до отвращения, с пакетом кисловатого молока и черствым круассаном — обедать в кафе дорого — отправляются перекусить на монпарнасское кладбище, где устраиваются на какой-нибудь треснувшей плите.
Многих посетителей кафе, разбросанных неподалеку от станции метро «Вавен», знал и Ходасевич. Это были погибающие люди: днем они голодали, чтобы наскрести на кофе в «Селекте», и сидели там до утра, потому что им негде было переночевать. Дара социальной адаптации они были лишены совсем. Но зато не были способны и к социальной мимикрии: всегда оставались самими собой. Тяготясь своей отверженностью, которая нередко развивалась в душевный недуг, не пытались, однако, приноровиться к требованиям общества и времени. Может быть, оттого что знали: все равно не получится. Такими их сделали эпоха и судьба. Оставалось нести свой крест.
Владимир Варшавский, средней руки прозаик, но прекрасный мемуарист, годы спустя вспоминал бесконечные ночные разговоры в те уже казавшиеся баснословными времена, когда Монпарнас стал отчасти русским. И свидетельствовал: в этих бедствующих, опустившихся «монпарно» московского происхождения было что-то от русских мальчиков Достоевского, которым непременно нужно отыскать свое решение самых трудных и ответственных этических проблем. В прокуренных залах говорили о Боге и о человеке, уже Его не ощущающем, томящемся бесцельностью, пустотой своих будней. О потерянном доме, о «детстве, юности, всей славе и счастье прежней жизни на родине». О «тоске эмигрантщины», которая сводит с ума.
Называли тех, кого — как гениального и беспутного Артюра Рембо — восприняли в качестве пророков и предтеч своего поколения, очутившегося в чужом, равнодушном мире и особенно остро чувствующего банкротство ценностей, отцам этих мальчиков казавшихся бесспорными. Грезили о литературе, которую они непременно создадут, не оглядываясь на ворчанье Милюкова, жестоко их выбранившего за измену «здоровому реализму» и «отрыв от жизни», да и вообще не считаясь с канонами, священными для стариков. Пусть другие пытаются остановить время, якобы не имеющее власти над памятью, и сохраняют иллюзию, что память заслонит и от эмигрантского повседневья, и от тоски. Пусть старшие с уверенным мастерством описывают воображаемые приключения несуществующих героев. Пусть с присущей им каменной непоколебимостью держатся за свои гармоничные схемы, хотя жизнь не оставила от этих схем ровным счетом ничего. Монпарнас пойдет в искусстве другими путями. Будет исповедь, пронзительный человеческий документ, и будут абсолютно новые формы, чтобы показать тайные страхи и боли, проникнуть в скрытые душевные движения, для которых не подходят привычные слова. Пустая страница правдивее, чем набор клише, таящихся за изяществом стилистики.