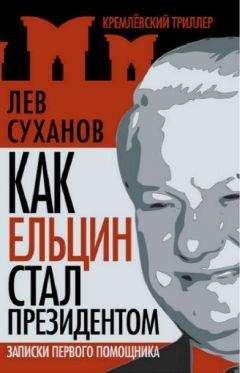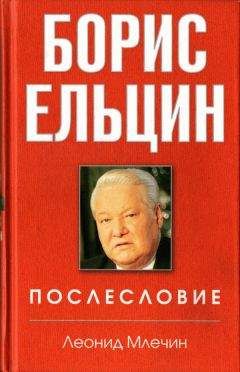Александр Костин - ЗАГОВОР ГОРБАЧЕВА И ЕЛЬЦИНА: КТО СТОЯЛ ЗА ХОЗЯЕВАМИ КРЕМЛЯ?
В кабинете Ельцина поместили аптечку с большим набором лекарств. На рабочем столе и столе для заседаний оборудовали кнопку вызова, чтобы он мог сразу вызвать секретаря. В комнате отдыха велели поставить диван, чтобы Ельцин мог прилечь, если, не дай бог, плохо себя почувствует.
Он еще оставался кандидатом в члены Политбюро, поэтому 9-е управление КГБ и 4-е Главное управление при Министерстве здравоохранения СССР продолжали его опекать. Но Ельцин понимал, что и этого он скоро лишится. А главного уже был лишен — власти. Он дорожил не столько ее атрибутами — все блага были просто приложением к должности, — сколько самой возможностью управлять действиями множества людей, выдвигать любые идеи и претворять их в жизнь.
Едва ли Борис Николаевич формулировал это для себя столь откровенным образом, но он-то понимал, что власть — это единственное, что приносит удовольствие всегда. Все остальное дает лишь кратковременную радость.
После отставки, вспоминал позднее Борис Ельцин, наступили «самые тяжелые дни в моей жизни… Немногие знают, какая это пытка — сидеть в мертвой тишине кабинета, в полном вакууме, сидеть и подсознательно чего-то ждать… Например, того, что этот телефон с гербом зазвонит. Или не зазвонит…».
Телефон с гербом — это аппарат правительственной городской автоматической телефонной станции. Телефоны АТС-2, в просторечии «вторая вертушка», устанавливали номенклатуре средней руки — уровня заместителя министра. У Ельцина же в госстроевском кабинете помимо «второй вертушки» стояла и «первая» — АТС-1, которая полагалась членам высшего эшелона власти.
И каждый день он с надеждой смотрел на этот телефон, ожидая, что, как в сказке, он вдруг зазвонит — и если не сам Горбачев, то кто-то от него скажет: приезжай, Борис Николаевич, для тебя есть дело поважнее… Но телефон не звонил.
Ельцин тяжело «переживал» свое политическое изгнание. Об этом он пространно рассуждает в своей «Исповеди…»:
«Мне нужно было выползать, выбираться из кризиса, в котором я очутился. Огляделся вокруг себя — никого нет. Образовалась какая-то пустота, вакуум. Человеческий вакуум. Странная жизнь. Кажется, работал в контакте с людьми. Вообще любил компанию. К людям всегда тянуло, а не к одиночеству. И когда предают один за другим, десяток, второй десяток людей, с которыми работал, которым верил, начинает появляться страшное чувство обреченности. Может быть, это характерная черта сегодняшнего времени? Может быть, у нас общество настолько зачерствело в результате всех этих черных десятилетий, что люди перестали быть добрыми? Как будто вокруг тебя очертили круг, и туда никто не заходит: боятся прикоснуться и заразиться. Как прокаженный. Прокаженный для тех, кто дрожит за свою судьбу, для тех, кто старается угодить, для конъюнктурщиков, но, как это ни грустно, и нормальных людей из тех, которые всегда чего-то боящихся…
На Пленумах ЦК, других совещаниях, когда деваться было некуда, наши лидеры здоровались со мной, с опаской, какой-то осторожностью, кивком головы давая понять, что я в общем-то, конечно, жив, но это так, номинально, политически меня не существует, политически я — труп…
Трудно описать то состояние, которое у меня было. Трудно. Началась настоящая борьба с самим собой. Анализ каждого поступка, каждого слова, анализ своих принципов, взглядов на прошлое, настоящее, будущее, анализ моих отношений с людьми, и даже в семье, — постоянный анализ, днем и ночью, днем и ночью. Сон три-четыре часа, и опять лезут мысли.
В таких случаях люди часто ищут выход в Боге, некоторые запивают. У меня не случилось ни того, ни другого. Осталась вера в людей, но уже совсем другая — только в преданных друзей. Наивной веры уже не было…
Потом, позже, я услышал какие-то разговоры о своих мыслях про самоубийство, не знаю, откуда такие слухи пошли. Хотя, конечно, то положение, в котором оказался, подталкивало к такому простому выходу. Но я другой, мой характер не позволяет мне сдаваться. Нет, никогда я бы на это не пошел…
Меня все время мучили головные боли. Почти каждую ночь. Часто приезжала скорая помощь», мне делали укол, на какой-то срок все успокаивалось, а потом опять. Конечно, семья поддерживала чем могла. Бессонные ночи напролет проводила у моей кровати Наина, дочери Лена и Таня — помогали как могли. Особенно когда начинались страшные приступы головной боли, готов был лезть на стенку, еле сдерживал себя, чтобы не закричать. Это были адские муки. Часто терпения просто не хватало, и думал, вот-вот сорвусь»[231].
Срывался, да еще как. Одна из секретарей Ельцина в Госстрое вспоминала потом:
«Зайдешь, бывало, а он весь согнутый сидит — значит, судьба по нему еще раз стукнула. Потом голову поднимет — взгляд тяжелый, как будто головная боль мучает. Может что-то швырнуть в таком состоянии. В такой момент лучше на глаза не показываться. Но даже и через двойную дверь было слышно, как бушует один в кабинете — бьет кулачищем по столу, по стене, стены дрожали — такой грохот стоял»[232].
Тяжело пережил Б. Ельцин процедуру исключения его из кандидатов в члены Политбюро. Это случилось 8 февраля 1988 года на пленуме ЦК КПСС. Свидетельствует Лев Суханов:
«Когда он утром пришел на работу, на нем не было лица. Как же он все это переживал! Да, он оставался еще членом ЦК КПСС, но уже без служебного ЗИЛа, без личной охраны…
В нем как будто еще жили два Ельцина: один — партийный руководитель, привыкший к власти и почестям и теряющийся, когда все это отнимают. И второй Ельцин — бунтарь, отвергающий, вернее, только начинающий отвергать правила игры…»[233]
Но о втором, новом Ельцине говорить было еще рано. Пока он находился в состоянии тяжелой депрессии.
Почти целый год Ельцин прожил в состоянии тяжелого психологического стресса. Работа в Госстрое его не интересовала. Он давно отошел от строительных дел, жил уже другими интересами.
Формально Ельцин курировал лишь три управления — научно-техническое, проектирования и нормирования. Всеми основными текущими вопросами ведал другой, настоящий первый зам. по фамилии Бибин.
Но даже этими, весьма необременительными заботами Борис Николаевич занимался спустя рукава.
(Когда осенью 1988 года его спросили — удовлетворен ли он своей работой в Госстрое — Ельцин резко ответил: «Нет! Желаю динамичной, интересной работы с людьми. Сейчас же на 80% работаю с бумагами».)
О каких-то значительных итогах его деятельности в Госстрое доподлинных сведений не сохранилось.
Известно, в частности, что он согласовал строительство моста через Иртыш в Семипалатинске, который местная власть пыталась пробить много лет. Правда, строить его начали только через десятилетие, уже в независимом Казахстане.
Еще Ельцин успел зарубить прокладку новой столичной трассы — Краснопресненского проспекта, который должен был влиться в только что сданное Ново — Рижское шоссе. (К трассе этой московское правительство приступило лишь недавно.)
Вообще, насчет зарубить — проблем у Бориса Николаевича никогда не было.
«Пройти «через Ельцина» какому-нибудь захудалому проекту было так же трудно, как вспять повернуть эти северные реки, — восторгается его помощник Суханов. — А между прочим, этот сумасшедший проект уже обсуждался в Госстрое, как и строительство промышленных предприятий на Байкале или проблемы на просадочных грунтах Атоммаша. Ельцин был категорически против этих проектов, писал докладные, звонил знакомым министрам…»[234]
Так ли это — сказать трудно. Вполне возможно, что роль Ельцина в очередной раз преувеличивается. Борис Николаевич и его окружение частенько страдают мюнгхаузеновским синдромом.
Журналист иркутской «молодежки», бравший в 1988 году одно из первых интервью у Ельцина, вспоминает, как тот ляпнул, что это именно он, Борис свет Николаевич, остановил промышленные стоки в Байкал, перекрыв трубу.
«Но мы-то знали, что заслуга была не совсем его», — до сих пор удивляется иркутский (сиречь тамошний, байкальский) корреспондент.
А когда, с другой стороны, мог Ельцин заниматься текучкой, если погружен был в совсем другие проблемы.
Работавший тогда зам. начальника одного из главков Госстроя Иван Сухомлин рассказывал журналистам:
«Госстроевские дела Бориса Николаевича совершенно не интересовали. И если он что-то и делал, то — формально, не вникая в суть… На совещаниях он просто зачитывал подготовленную ему справку, давал поручения тому или другому работнику и больше не возвращался к этому вопросу… Его неделями не было в Госстрое: то болел, то ездил куда-то, то неизвестно чем занимался»[235].
То же самое, почти слово в слово, говорит и Михаил Полторанин:
«В Госстрое он вообще не работал! Я к нему приезжал, он так радовался, что живой человек зашел»[236].
Особенно радовался Борис Николаевич, когда его навещал бывший телохранитель А. Коржаков, который делал это регулярно — либо один, либо с его бывшими водителями. Сам Александр Коржаков об этих встречах вспоминает с теплотой: