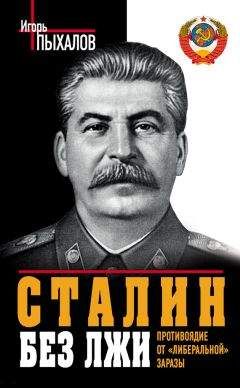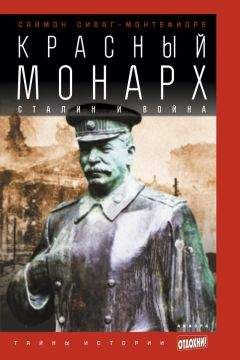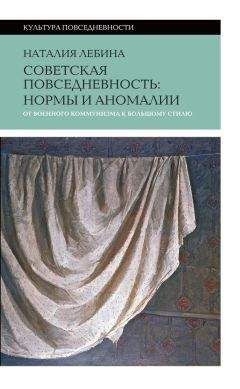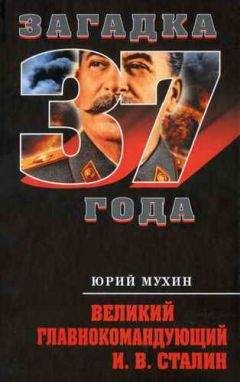Наталья Лебина - Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.
В начале 30-х гг. ТРАМ стал уделять все больше и больше внимания общественно-политическим и экономическим проблемам, он участвовал в социалистическом соревновании, боролся за выполнение пятилетнего плана, за чистоту партийных рядов. Это нашло отражение в тексте трамовского марша:
Мы театр рабочей молодежи.
С комсомолом в ногу мы идем.
В пятилетку силы свои вложим
И покончим с классовым врагом[562].
Такое прямое копирование жизни становилось нелепым для ТРАМа. к этому времени уже профессионального театра. Туда пришли работать многие талантливые люди. Но это не соответствовало изначальной трамовской идее, и она постепенно угасала, а, главное, в ТРАМе разочаровалась рабочая молодежь. Билеты в этот театр резко подорожали. Уже в 1928 г. на комсомольском собрании одного из цехов Балтийского завода молодые рабочие обратились с просьбой к обкому комсомола сделать билеты более доступными по цене, «чтобы (подростки. — Н. Л.) не шли в пивную, так как там дешевле»[563]. Не нравилась юношам и девушкам и «профессиональность» ТРАМа. Она ликвидировала у них иллюзию прямой причастности к высокому театральному искусству, ставила ранее доступный для понимания ТРАМ на одну ступень с другими театрами, посещение которых не стало нормой в среде молодых рабочих. Действительно, политизированный ТРАМ был, по сути дела, почти единственной нитью, соединявшей рабочую молодежь с театральным искусством. В других театрах она практически не бывала В 1928 г. в Ленинграде рабочие составляли лишь 20 % от числа посетителей академических театров[564].
После постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» театры рабочей молодежи прекратили свое существование как самостоятельные творческие коллективы. Новое поколение молодых ленинградских рабочих вступало в стадию культурной социализации без специально созданной для нее формы приобщения к театральному искусству. И вероятно поэтому, несмотря на рост количества театров в стране в 30-е гг., рабочие стали посещать их еще реже, чем ранее. В 1934 г. в Ленинграде всего лишь 10 % тружеников промышленных предприятий одного из центральных районов — Смольнинского побывали в театрах[565]. Молодые рабочие, согласно опросу 1935 г., посещали театральные постановки в три раза реже, чем кинотеатры[566]. При этом следует учитывать, что слой рабочих-театралов формировался специально: организовывались культпоходы, передовикам производства билеты предоставлялись почти бесплатно и в первую очередь. Распределение в данном случае вовсе не носило характера необходимой очередности в связи с большим спросом на театральные зрелища. Просто в систему политики советского государства входила в 30-е гг. задача формирования нового слоя рабочей аристократии, нормами жизни которой считались вполне буржуазные стереотипы культурной жизни, в частности, посещение театров. А. Стаханову, например, сразу после установления рекорда, как указывалось в решении парткома шахты, выделили «два почетных места с женой на все спектакли»[567]. С 1935 г. театральные постановки академических театров вообще превратились в традиционное зрелище для передовиков производства. Побывавший в Ленинграде в 1936 г. французский писатель Л.-Ф. Селин сразу заметил своеобразие состава публики в театре оперы и балета им. С. М. Кирова. Зал заполнялся в соответствии с социальной иерархией советского общества». В царской ложе сидят местные партийные боссы… — констатировал Селин, — на балконах толпятся колхозники… инженеры… чиновники… и наконец стахановцы… самые шумные, болтливые и фанатичные сторонники режима, их очень много, это горячечные… одержимые… эксгибиционисты… кажется, остальные присутствующие в зале зрители их не очень-то жалуют»[568]. Молодых же рабочих, пришедших по собственной инициативе в театр, практически не было. И останавливали их не только стоимость билетов или отсутствие соответствующей одежды. Те же проблемы были в 30-е гг. у многих ленинградцев. В воспоминаниях Вл. Маркова, профессора Калифорнийского университета, в юности студента Ленинградского университета, есть описание публики, посещавшей хоры Филармонии в конце 30-х гг.: «На хорах была особая публика. Если внизу в партере восседала советская «интеллигенция» с деньгами — актеры, музыканты, писатели, — то наверху стояло студенчество вперемежку с людьми из дореволюционных романов: какие-то бородатые умноглазые люди толстовского типа, какие-то дамы в трауре, какие-то старички, старушки, одетые с чистой бедностью»[569]. Рабочих в этой «особой» публике не было. Походы в театры воспринимались ими даже не внеэстетически, не как сугубо развлекательное мероприятие, а как норма жизни привилегированных слоев советского общества, своей принадлежности к которым большинство юношей и девушек из пролетарской среды не ощущало.
Театр был не единственной традиционно городской, петербургской нормой проведения досуга, которую не освоило молодое пролетарское пополнение. К числу стойких специфических традиций повседневной жизни с конца 80-х гг. XIX в. стал выезд горожан летом на дачи в окрестности Петербурга. Средний слой питерцев — интеллигенция, чиновничество, — не имевший собственной недвижимости, снимал дачи. В пригородных поселках формировалось совершенно особое «данное» общество с присущей только ему стилистикой повседневности. Она была насыщена весьма специфической публичностью, регулируемой особенностями загородного пространства Значимость дачной жизни была огромна для жителей российской столицы. Достаточно привести пример Л. Андреева, оказавшегося в вынужденной эмиграции после октябрьских событий 1917 г. из-за своей привычки проводить много времени за городом. Выезд на дачу в определенное место предопределял формирование неких бытовых корпораций, носивших довольно устойчивый характер. При этом дачники и вне Петербурга строили свой досуг согласно устоявшимся нормам городской культуры.
Дачная жизнь стала возрождаться с переходом к НЭПу, демонстрируя тем самым нормальный характер данной политики с позиций повседневной жизни. Питерский поэт В. Шефнер вспоминал: «Хоть жили мы бедновато, но все же почти каждое лето мать вывозила сестру мою Галю и меня куда-нибудь на дачу — то в Тайцы, то в Горелово. Лучше всего мне запомнилось лето 1927 г. проведенное нами в Горелове. Поселок этот считался самым недорогим дачным местом и в то же время славился своей картошкой… Мы сняли две комнаты в одной большой избе… Спали все на полу, точнее — на сенниках. Эти большие холщовые мешки мы привезли из города, и здесь хозяйка дала нам сена, чтобы набить их»[570].
Традиция снимать дачи осталась нормой жизни ленинградской интеллигенции и в 30-е гг. Известный искусствовед М. Герман точно подметил ««вечность» этой питерской привычки. Дача — особый сюжет, и я не помню, чтобы в пору «богатой» или относительно «бедной» жизни он бы принципиально менялся, — на дачу ездили люди разного достатка», — вспоминает он[571]. Однако следует уточнить — разного достатка, но одного социального слоя. Рабочих среди дачников не было ни в 20-х, ни в 30-х годах. Это объяснялось несколькими обстоятельствами. Прежде всего, именно пролетарская среда поддерживала наиболее тесные связи с родственниками из деревни. К ним обычно ездили рабочие летом в отпуск. Кроме того, в 20-е гг. большевики действительно пытались наладить систему организованного отдыха рабочих, и прежде всего молодежи, в санаториях, домах и базах отдыха. В 1921 г. юноши и девушки, трудившиеся на фабриках и заводах города, получили 460 бесплатных путевок, в 1924 г. — 1456, а в 1925 г. — 290 276. Правда, в 30-е гг. практика предоставления бесплатного отдыха в первую очередь нуждающимся в этом молодым людям была заменена системой обеспечения лишь передовиков производства. И все же рабочие продолжали находиться в преимущественном положении по сравнению с другими социальными слоями населения при получении места в доме отдыха или санатории. Видный петербургский историк А. Г. Маньков зафиксировал эту ситуацию в своем юношеском дневнике, относящемся к 1933 г.: «17 июля. Я в отпуске… Решил разузнать в заводской страхкассе, нельзя ли достать платную в какой-либо дом отдыха. Там сидела высокая, упитанная женщина в красном платке. С ней разговаривали какие-то двое, очевидно, рабочие. Она широко, беспрестанно и приветливо улыбалась, щуря заплывшие глазки… И той же улыбочкой по инерции обласкала меня… Я высказал свою просьбу. «А кем вы работаете?» — вновь спросила она, очень ловко сгоняя с лица улыбку, хотя и не утрачивая прежней приветливости. «Счетоводом», — ответил я. «Фи! Служащий… нет, нет, ничего для служащих нет»»[572]. Даже эти ограниченные привилегии основной массы рабочих создавали в их среде четкое предубеждение против летней дачной жизни, которую надо было оплачивать из собственного кармана, а не за счет профсоюза.