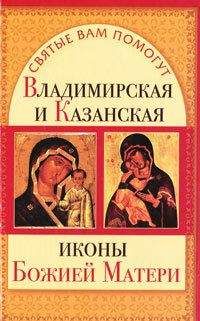Александр Пыльцын - Правда о штрафбатах.
На улице меня ждали Рита, оба Жоры — Сергеев и Ражев и еще несколько офицеров, среди которых был и один из помощников Киселева, ПНШ капитан Николай Гуменюк, ведающий наградными делами. Покрутился, что-то вроде хотел сказать, но так и ушел, не улучив, наверное, подходящей минуты.
Заснул я не скоро, но все-таки поспал, голова немного посвежела. Рита уже готовилась к вечернему визиту в дом Батурина: приготовила с помощью Путри мой китель, давно лежавший без дела в обозе, погладила, подшила свеженький белый подворотничок, отгладила свою гимнастерку, нацепив на нее орден, полученный в госпитале, и медаль, которой ее наградили еще за Альтдамм. Ведь все-таки Первомайский праздник, и Батурин, наверное, именно по этому поводу "дает прием", раз пригласил нас.
А многие уже знали, что прием этот будет, в отличие от встречи Нового года, в довольно узком составе.
Когда мы там появились, кроме комбата и его жены были замполит Казаков и все остальные заместители, почти все штабные офицеры, оба Георгия (Сергеев и Ражев), а также наш батальонный доктор и ротный парторг Чайка, который тоже, оказывается, был ранен на Одере, уже на воде, но выплыл, от госпитализации отказался и, как и Жора Сергеев, лечился у Степана Петровича. Кто-то еще был, не помню, но первый тост, как и положено, произнес комбат.
Говорил он долго, в основном о Первомае, потом перешел к недавним событиям на Одере. Узнал я, что совершенно невредимыми из штрафников, бравших плацдарм, остались всего четыре человека, в том числе и Сапуняк, заменивший меня после ранения. Как я был рад этому! Сказал Батурин, что всех их без "пролитой крови" уже восстановили в званиях и возвратили в их части или в офицерский полк резерва.
Подводя итог этой части своей длинной, вовсе, казалось, и не застольной, речи, комбат сказал и о тех, кто представлен к правительственным наградам. Начал с того, что к званию Героя Советского Союза (посмертно) представлен капитан Смешной.
Я тогда подумал, что Смешной проявил поистине героическое самообладание, поразительную способность владеть собой в самых разных условиях, в том числе и в ситуации смертельной опасности. Это, по-моему, и есть высшее проявление героизма.
Вот сейчас, когда я пишу эти строки, в памяти непрерывно стучат слова, услышанные мной на одном вечере фронтовой поэзии в Харькове:
Лежат в земле ненагражденные солдаты.
А для прижизненных наград
им просто жизни не хватило.
Сколько их, порой безвестных, героев, без наград полегло в матушку-землю, и свою, и чужую?
Далее комбат сказал, что я представлен к ордену боевого Красного Знамени и присвоению очередного воинского звания, при котором "одна большая звезда заменит все маленькие звездочки на погонах". Как-то уж очень витиевато он это изложил.
Значительно проще через несколько дней об этом сказал мне ("по секрету") Коля Гуменюк. Вначале было заготовлено представление к такому высокому званию посмертно на меня, но как только Батурин узнал от Риты, вернувшейся из госпиталя, что я жив, он тут же приказал это представление переоформить "согласно желанию командира роты" на Смешного. Я подумал: а может, комбату было такое указание сверху, что в штрафбате Герой может быть только посмертно? А может, Батурину не хотелось, как и раньше, чтобы кто-то в батальоне носил награду более высокую, чем у него? (К тому времени он уже успел получить орден Красного Знамени. Наверное, тоже за Одер.)
Потом на этом вечере после двух или трех тостов случилось неожиданное. Здесь я снова передам слово автору очерка "Военно-полевой роман" Инне Руденко, которая со слов Риты записала там следующее:
Суровый Саша был, волевой, но как-то раз чуть не потерял сознание. Было это после ранения.
Отмечали Сашино возвращение из госпиталя, говорили о том, как недоставало его всем, как я его искала и ждала, какая у нас верная любовь, и вдруг встает наш друг и прямо в лицо двум говорившим бросает: "Вы не смеете даже произносить их имена!". Оказалось, эти двое, пока Саши не было, уже договорились, кто первый попытается меня «утешить». Саша побледнел так, что еле мы его подхватить успели.
А я, действительно, потерял на какое-то время сознание от вдруг возникшей чудовищной головной боли. Наверное, к этому эмоциональному фактору добавилось и то, что я все-таки «употребил» (правда, не водки или спирта, а по случаю счастливого «воскресения» мне налили, кажется, французского коньяка, который среди трофеев не был редкостью), несмотря на строгие наставления госпитальных врачей. Другом этим оказался все тот же Георгий Ражев, который все больше становился сварливым, склонным к ссорам и скандалам, успевший уже солидно хватить спиртного до этого батуринского приема. Его болезненное воображение, подогретое винными парами, нафантазировало какую-то жуткую картину из неправильно понятой услышанной фразы, где речь шла о том, как они сокрушаются о случившемся и каким образом лучше успокоить, утешить молодую вдову на сносях. За эти последние недели Георгию удалось устроить не один скандал и среди офицеров подразделений, и в штабе. И все на почве «злоупотребления». На следующий день его в батальоне уже не было.
Решение комбата Батурина об откомандировании Ражева сложилось несколько раньше. Тогда, перед Одером, его внезапная замена Сережей Писеевым, оказывается, была связана с письмом
Ражева-отца, полковника, занимавшего какой-то видный пост в 5-й Ударной армии, наступавшей южнее нас, с Кюстринского плацдарма. Сердобольный папаша, узнав, вероятно, от сына, что тот готовится форсировать Одер, прислал комбату 8-го ОШБ просьбу не посылать его чадо в предстоящие бои, чтобы, не дай Бог, в самом конце войны оно, уже имевшее и ранения и тяжелую контузию, не погибло. Конечно, отца понять можно, каждому родителю всегда хочется, если такая возможность имеется, хоть чем-нибудь уберечь свою кровинку. Ну, а тут возможность была: ведь по штату офицеров было на четыре роты, а воевать шла одна.
Эта его последняя выходка, видимо, переполнила чашу терпения в общем-то флегматичного Батурина, и Георгия так срочно откомандировали к отцу, что к утру его уже не было в батальоне. Уехал он не попрощавшись. Наверное, все-таки стыдно было. Через много лет после войны, когда я разыскивал своих друзей-однополчан, вернее «одноштрафбатовцев», нашел и его в Пензе, и почти до самой его кончины мы переписывались. Все-таки совместная фронтовая жизнь и пережитые опасности сближают сильнее, нежели разделяют случаи типа того, каким был тот первомайский скандал близ Берлина. Потом его письма перестали приходить, и через несколько лет на мой запрос в военкомат пришел ответ: "Капитан в отставке Ражев Георгий Васильевич умер 14 мая 1993 года и похоронен на Аллее Славы города Пензы". Наверное, все-таки тогда (у нас в ШБ) у него были срывы, а остальную часть жизни он прожил достойно.
В те дни штаб батальона несколько раз менял место дислокации (и все вокруг Берлина). В бой наши подразделения больше не посылали, хотя пополнение штрафников все еще поступало. Война кончалась, но, будто по инерции, трибуналы продолжали работать.
Мой верный Путря трогательно, со слезами искреннего сожаления на глазах простился с нами и уехал в распоряжение Отдела кадров фронта уже лейтенантом (я даже подарил ему свои погоны, убрав с них лишние звездочки). А там его, наверное, сразу (или вскоре после Победы) и уволили в запас. И я был рад, что приложил руку к тому, чтобы сохранить ему жизнь, а то едва ли он бы выжил на Одере.
Тот мой ординарец, что был у меня на Одере, погиб на плацдарме. Путря завершил свой штрафбатный срок. И теперь по распоряжению комбата вновь прибывающих штрафников назначали ординарцами к офицерам, и не имеющим подразделений. Ко мне прикрепили капитана-артиллериста Сергея (не помню точно фамилии, кажется — Кострюков). Это был москвич среднего роста, с тонкими чертами лица, выдающими в нем потомственного интеллигента. Он прекрасно играл на пианино и вообще был музыкально и литературно образованным человеком. Вот не помню только, в чем он перед самым концом войны проштрафился.
Так случилось, что этому пополнению не пришлось вступить в бой, хотя, несмотря на это, по шесть-семь часов боевой подготовки ежедневно у них было. А судьба у них сложилась так, что, наверное, все они вскоре по случаю Победы были амнистированы. Сергей оставил мне свой московский адрес. И в мой первый отпуск в конце 1946 года, когда мы с Ритой проездом через Москву на Дальний Восток впервые попали в столицу нашей Родины и в первый раз увидели Кремль, Мавзолей, Красную площадь, то все-таки выбрали время навестить заветный московский адрес, однако дома Сергея не застали — он где-то недалеко под Москвой продолжал служить. Но встреча с его родными, которым он, оказывается, рассказал о нас, была сердечной и приятной.
2 мая пал Берлин! До окончательной Победы оставалась какая-то неделя, а 4 мая Батурин с Казаковым где-то добились разрешения совершить поездку в Берлин, к рейхстагу.