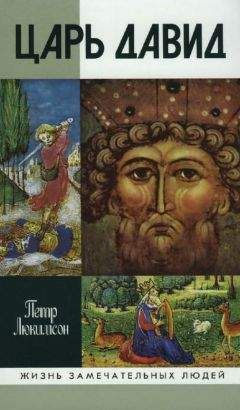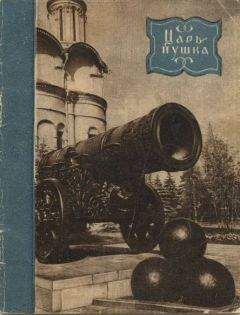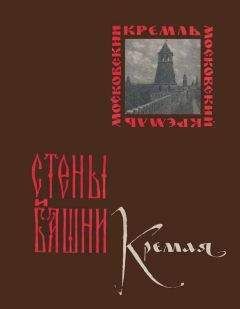Сергей Карпущенко - Лже-Петр - царь московитов
И Борис Петрович, весь распаленный гневом, схватил калеными клещами за предплечье шведского майора.
Швед заорал, но вот из дикого крика его выявились и членораздельные слова:
- Не-е, не-е при-хо-дил, в Нов-го-ро...де был... тогда...
- В Новгороде, говоришь? - подступал с рожном Данилыч. - Да что ж мы, рожу, что ли, твою кошачью не узнали? Еще и приказы отдавал как царь: идите, дескать, утром на бастион. Там вам ворота откроют шведы да ещё и пушки все бастионные попортят. Ты то был, больше некому. А коли говоришь, что утоп наш царь, так кому же и являться, коль не тебе? Не в Новгороде ты был, а в Нарве, в Нарве!
Но тут Шереметев властным движением руки унял грозную тираду Александра Данилыча, которому страсть как хотелось поиздеваться над самозванцем при посредстве раскаленного рожна.
- Постой, Данилыч, может, швед нам и правду говорит: не было его в ту ночь под Нарвой. Утверждение сие легко проверить. Я у графа Головина на сей счет спрошу, спознаем. Но чую, что на самом деле приходил к нам тогда сам государь природный, Петр Алексеевич, да вот токмо какого хрена ради был он на службе шведской? Или думать надо, что в полоне он и волю Карла исполнял, нас заманивая в город? Эх, тут сам черт ногу сломит. Прогнали мы тогда Петра, били помазанника, таперя он нам сей проделки не простит, да и сказывали мне, что...
Шереметев остановился, словно не решаясь говорить при шведе, но Меншиков поторопил его с ответом:
- Что ж... сказывали-то?
- А то, что когда дивизия Вейде со шведом билась, из Нарвы выскочив, бросился на русских шквадрон* драгунский, а возглавлял его какой-то важный офицер, точь-в-точь на государя похожий. Эх, и порубили же они тогда солдатиков, не счесть.
- Да быть того не может, - с сумнительством, покручивая головой, подал голос Аникита Иванович Репнин, такое сообщение решивший в протокольные бумаги пока не заносить.
Шереметев как бы с грустью промолвил:
- Верные люди о том мне говорили, офицеры русские, крестились даже. Им, впрочем, давно уже понятно было, что антихрист, а не Петр приехал из-за границы, так они не слишком удивлялись: ну, не в Новгород уехал царь, а в Нарву, к своим сбежал. Все ясно, как Божий день.
Лже-Петр, боясь, что ему припишут ещё и командование отрядом кавалеристов, порубавшим русских, забился, заворочался на кресле, закричал:
* Эскадрон. - Прим. автора.
- Не был я в Нарве, не был! Головин вам подтвердит сие, другие люди! Порох я собирал здесь, провиант, новых людей готовил! Вероятно, что и не утонул ваш царь и сюда пришел, каким-то манером нанявшись на службу шведскую, чтобы вовремя помочь вам! Вы же, на меня озлясь за неожиданный отъезд, не приняли его, прогнали, не захотели признать в законном своем царе повелителя России! Таперя, подданные милые мои, - майор Шенберг в улыбке сделал малый рот свой длинным и широким, - не будет у вас царя: я на кол сяду, - что ж, я к тому готов был, - законный царь ваш перешел на сторону врагов Москвы, дабы отомстить вам за бесчестье. Русь же смута ждет, похожая на ту, что перемесила весь ваш народ в начале века. Эх, глупые вы головы!
Раскаленное железо, поднесенное рукой Данилыча, не смогшего стерпеть насмешек шведа, уже готово было прикоснуться к телу самозванца, но Шереметев руку Меншикова отвел решительно. Мысль какая-то светилась в его глазах.
- Постой, Данилыч, - сказал он тихо. - Со шпиком оным мы завсегда разделаться сумеем. Такую ему казнь измыслим, что сам Иван Васильевич во гробе всколыхнется. Но я б вначале с ним потолковал...
- О чем же с оным стервом нам говорить? - недовольно буркнул Алексашка. - Уж поговорено довольно.
- Нет, не довольно, - сказал Борис Петрович и оборотился к шведу, стул подставил к нему поближе, сам уселся на него и долго, минуты три, спокойно, с пристальным вниманием вглядывался в круглые его, полные тревоги за жизнь свою глаза. Нет, умирать Шенбергу очень не хотелось, и он уже жалел о том, что позволил себе смеяться над неловкостью русских. - Значит, человече, Мартином тебя мать с отцом назвали? - мягко, по-отечески заговорил Борис Петрович, похлопав рукой своей по колену шведа.
- Да, в честь Мартина святого, - ответил Шенберг, не понимая, куда клонит воевода.
- Ну так слушай, Мартин, разве жить-то не так приятно, как падалью валяться в какой-нибудь яме?
- Нет, жить, разумеется, куда приятней... - молвил Шенберг.
- Разумеется, - кивнул Борис Петрович, - а жить в палатах царских приятней во сто крат. Токмо, друже, царьком покуда ты у нас поганым оказался, много всяких пакостей успел наделать да и сам испакостился, ей-Богу! Ну посуди ты сам, друг Мартин: хоть и устроил ты для шведов плезир великий стрелецкой казнью, переделыванием нас в немцев, сей нарвской канителью с победой ихней, потерей пушек едва ль не всех, но ведь не Мартина - шпика шведского по всей Европе будут славить как ловкого агента, который всех бояр длиннобородых русских, всех оных недоумков вокруг пальца своего обвел. Нет, брат! О майоре Шенберге мало кто знает, зато царя Петра, от имени и власти которого ты отказываться пока не собирался, во всей Европе знают, да и подале. Вот и получилось, Мартинушка-дружочек, что ты сам свою пятку-то и обосрал и обосранный явишься пред всем миром. При дворах-то европейских над тобою, дурачком, смеяться станут: "Петруша, скажут, - русский под Нарвой чуть ли не три месяца просидел, ни единого штурма не предпринял, из пушек по стенам за три версты стрелял, растратил весь порох, а потом все войско предал - убежал, едва заслышал, что Карл сопляк зеленый на него идет с восемью тысячами солдат, уставших от дороги дальней. В пух и прах разбили энтого Петрушку, да и поделом ему: сидел бы в своей Москве, щупал бы немок, щелкал бы орехи да на шведские бы земли не засматривался. Дурак он, ей-Богу, простофиля!" Вот как о тебе, голубь мой, люди в Европе станут говорить. Сам ты себя говном измазал - не отмоешься!
Не только Шереметев, но и Меншиков, и Репнин, поднявшийся из-за стола, с бьющимися сердцами, пристально вглядывались в лицо майора, по которому гуляли признаки чувств противоречивых, но по большей части скорбь и сильное уныние изображались на его широком, как сковорода, лице.
- А ежели... - сказал он после долгого раздумья, на которое ему дал время Шереметев, - ежели... я и не собираюсь больше быть царем Московским и уеду в Швецию, где король обласкает меня за то, что я учинил в России.
- Уедешь?? - сильно удивился Борис Петрович. - Да кто ж тебя теперь отпустит-то? Как агент державы иноземной, приведший войско наше к поражению, ты, по крайней мере, будешь колесован. Но, - Шереметев усмехнулся, - если бы ты и бежал, - на акцию подобную времени тебе достаточно уж было, - если б ты и бежал в Стекольный, то не думаю я вовсе, что ты, Мартин Шенберг, добился бы там славы. Ты что же, короля своего не знаешь, Карлуса, который спит и видит себя великим полководцем, перед коим ниц падают цари и вражеские генералы? А тут является какой-то Шенберг, майоришка, и начинает говорить, что будто не доблестной шпагой Карла добыта Нарвская виктория, а токмо одним его проворством и хитростью. Славу корононосца Карла затмить хотел? Тебя, наш голубь, в Швеции ждет участь не менее печальная, чем здесь, в России. Ты или отравлен будешь тайно, или же по приказу Карла по вые твоей пройдется острый ножик. Ты, брат Мартин, сделал свое дело, и никому уж таперя не нужен. Война развязана, Нарвское сражение проиграно, Карл, я знаю, вскоре разделается с Августом, союзником, коего ты вероломно втянул в войну. А ежели узнает Август, что какой-то Шенберг стал причиной его бедствий? Да он тебе башку открутит, где бы ты ни жил. Видишь, в скольких капканах застряли все ручки твои и ножки. Позавидовать тебе, возможно, мог бы токмо тать, приговоренный к отсечению главы.
Потухшим, мертвым взором смотрел Лже-Петр куда-то в угол комнаты. Теперь ему казалось, что он, тщеславец, стремившийся добиться славы на поприще интриги, к которой его призвало сходство с царем Петром, явился несчастной жертвой политических затей хозяев из Стокгольма. Его судьба, описанная Шереметевым, выглядела вполне правдиво. Майору оставалось лишь одно.
- Фельдмаршал, - обратился он к Шереметеву, впервые называя его столь пышным титулом - хотел подольститься к воеводе. - Если бы я попросил вас оставить меня всего на пять минут, то веревка, нет, даже мой галстук, помогли бы распутать мой... житейский узел другим узлом. Но... но офицеру не пристало пользоваться столь позорными способами самоубийства. Прошу вас, оставьте пистолет или, по крайней мере, нож, и вы, уверен, вознаградите себя за причиненный мной позор своей стране, избавите себя от необходимости ломать кому-то кости на колесе, сажать меня на кол. Господин Репнин все записывал исправно, и народу Московии будет известно, кто привел её к такому вот концу...
И Шереметев, и Меншиков, и князь Репнин, услышав искренность в словах того, кого они ещё совсем недавно готовы были истерзать, замучить злейшей казнью, посмотрели на Шенберга с сочувствием. Сейчас в этом изувеченном пыткой человеке, столь похожем на их государя, виделся солдат, преданный своей родине, и все поверили в искренность его просьбы. Но Шереметев молчал недолго. Положив руку на обнаженное плечо майора, он сказал: