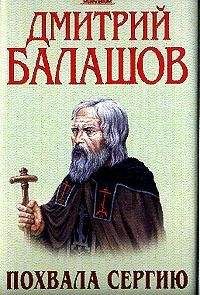Дмитрий Балашов - Отречение
Тверь глядела на все это из-за калиток, по-за тынами, из окошек верхних горниц, глядела и запоминала, так что с каждым разоренным домом, с каждым ограбленным горожанином и с каждым выпотрошенным сундуком, с каждою ограбленною лавкою в торгу у Василия Кашинского все меньше оставалось в Твери сторонников. Задумывались даже те, кто доселе стоял на том, что Василий, по лествичному счету, должен занимать тверской стол после Александра с Константином. Теперь, пожалуй, Михаил сумел бы и в Твери набрать ратную силу против дядюшки своего.
Василий не то что приказывал все это творить, он попросту, как это уже было не раз, «возвращал свое», а тут к тому же требовалось собрать Семеновы дани-выходы, то, чего не получил в свое время Еремей из наследства брата и что должна была заплатить нынче упрямая Тверь. Ну а уж коли пошло на такое, едва ли не каждый из ратников спешил набраться, хватая все, что «плохо лежит».
Справив свою тризну в Твери, дядя с племянником, Василий с Еремеем, и с московской помочью двинулись вверх по Волге, громя и пустоша волость князя микулинского. Не миновали даже церковных сел Святого Спаса. Мычал угоняемый скот. Бояре набирали полон, обращая свободных смердов в холопов. За ратью двигался все распухающий обоз крестьянских разномастных коней, телег, колымаг, сноповозок, даже волокуш, шли, тяжко мыча, недоеные коровы, блеяли овцы, брели за телегами повязанные полоняники.
Рати подступили к Новому Городку, окружили. Дуром, не очень веря в отпор, густо и дружно полезли на приступ. Однако с заборов часто и метко летели стрелы, на головы осаждающих полились кипяток и смола, лестницы, полные лезущими по ним ратниками, раз за разом спихивали шестами под стену в ров. У ворот вышедшая встречу идущим на приступ московитам тверская рать ударила в ножи. Резались осатанев, грудь в грудь, катались в обнимку по земи, добираясь до горла: хрип, мат, ор, в ход пошли кистени, раненых, озверев, добивали сапогами. В конце концов московская помочь, теряя мертвых, откатила назад. Вслед за нею отступили и еремеевские молодцы с кашинцами. Ночью делали примет из хвороста, из утра снова пошли на приступ. Но тверичи опять вышли встречу и подожгли примет. К счастью, ветер был со стороны города и рубленые городни не загорелись, хотя и обуглились, с внешней стороны. Третий, уже недружный приступ был тоже отбит, после чего воеводы, посовещавшись, сняли осаду.
Вся правая сторона Волги – все села, рядки и деревни – была разорена и испакощена. В полях потравлен хлеб, потравлены и разорены копны сена. Жители, разбежавшиеся по лесам и буеракам, возвращались к расхристанным избам, вели, собирали по перелескам уцелевшую скотину. Скрипели зубами: не Литва, не татары – свои, русичи! Не было исхода гневу, и прощения не было.
Во Твери Василий Михалыч, как ему казалось теперь, уселся прочно. Тверь молчала, и нравный, самолюбивый и ограниченный старик не ведал никакого худа в этом молчании.
Московская помочь ушла, поскольку на южном рубеже вновь зашевелились татары. Но и без нее кашинский князь чувствовал себя прочно. Проезжая на коне по тверским улицам, спесиво задирал бороду: великий князь тверской! Не ведая, что молчаливая Тверь уже бесповоротно и твердо высказалась за князя Михаила…
Событием, оттянувшим московские силы, явился набег булгарского хана Булат-Тэмура на Нижегородскую волость.
Булат-Темирь, как его называли русские, был глуп и спесив. Захватив в пору ордынского междуцарствия Булгар, он засел в нем, уверовав в свои воинские таланты. Набег ушкуйников, ограбивших всю Каму, набег, коему он не сумел противустать, разъярил хана. И теперь, не очень разбираючи, кто нападал и кто виноват (громили татарских гостей в Нижнем – значит, нижегородский князь виноват! У хорошего князя гости под защитой всегда!), решил отплатить всем урусутам. Он ограбил княж-Борисову отчину, перешел Волгу и начал пустошить все подряд.
Соединенные рати Дмитрия Константиныча, Василия Кирдяпы и Бориса с московским полком выступили встречу ему. Булат-Темирь, сметя силы и оценив строй русских полков, струсил и начал отступать, внеся смятение в собственное воинство. Татар нагнали за Пьяной. Множество их утонуло в реке. Иных избивали без жалости, избивали по зажитьям, мало кого брали и в полон. Резня была жестокая, и Дионисий, приветствуя и благословляя возвращающееся воинство, уже верил, что началось неизбежное и давно призываемое им «одоление на супостаты».
Полки, пропыленные, усталые и веселые, шли и шли под звуки труб и рожков, вели захваченных, вьюченных лопотью лошадей, вели полон. Бежали, смешно переставляя ноги в долгих портках, испуганные татарки, шли бритоголовые, скованные вереницами ясыри…
Для русичей эта победа обернулась счастливо, ибо хан Азиз, вместо того чтобы отмстить за набег, решил воспользоваться случаем и покончить с независимостью Булгара: Булат-Тэмур был по его приказу схвачен и убит.
Тем же летом, в конце июля, прибыли на Москву новогородские послы и «докончаша мир», вызволив захваченных на Вологде новгородских молодцов и боярина Василия Данилыча.
Тем же летом умер в Новгороде Онцифор Лукин, с которым окончилось прежнее новогородское народоправство… Москва шла к монархической власти, а Новгород неодолимо скатывал к боярской олигархии. И ни те, ни другие не ведали, что за плоды это им принесет впоследствии.
Михаил Александрович Микулинский вернулся на родину 23 октября.
Глава 57
Все лето Михаил пробыл в Вильне. Ожидал Ольгерда, упрашивал Ольгерда, ездил к Кейстуту, пытаясь через него воздействовать на брата, уговаривал сестру Ульянию помочь ему. Ольгерд молчал, разглядывал шурина своими голубыми непроницаемо-твердыми глазами, что-то прикидывал про себя.
Михаил чувствовал себя то гостем, то почти что пленником. Гонцы доносили ему о митрополичьем суде, о походе, осаде Нового Городка. Все же, как выяснилось потом, размеры ущерба он плохо представлял себе в отдалении.
Ольгерда тревожили немцы, неспокойно было на польском рубеже, и его можно было понять, но Михаил чуял, видел – дело не в том. Порою он догадывал даже, почему Ольгерд не торопится с помочью для Твери. Не казался ли ему он, Михаил, слишком умным и потому слишком самостоятельным в грядущем? Не боялся ли Ольгерд, сокрушивши Москву, нажить себе в тверском князе более сильного соперника?
Во всяком случае, литовский великий князь писал в Константинополь, требуя особого митрополита для епархий Черной Руси, Волыни, Киева, а также Новгорода Великого, Смоленска и Твери. Не числил ли он уже про себя Тверь и Новгород литовскими волостями?
Ольгерд отлично ездил верхом. Скакать рядом с ним было одно удовольствие. Михаил участвовал в охоте на зубра, видел, как взъяренный зверь, мотнув огромною косматою головой, поднял на рога и кинул через себя лошадь со всадником; следил, как этот рослый литвин в холщовой сряде с непроницаемым лицом немногословно отдает приказания и как такие же рослые белобрысые воины, выслушав и склонив головы, не тратя лишних слов, тотчас садятся в седло и скачут исполнять приказ. И по той решительной посадке, с какою садятся в седло, и по тому, как скачут, виделось: приказы исполняют тут точно. И ежели Ольгерд прикажет, допустим, схватить и зарезать его, Михаила, то его схватят и прирежут с такими же спокойными, деловитыми лицами, не смутясь и не поколеблясь духом даже на миг. Он слушал рассказы о том, как ведут себя немцы в захваченных литовских хуторах, как вспарывают животы женщинам и травят собаками детей, и понимал, что в этой суровой земле выстоять можно только так и только с таким князем во главе. Кейстут, худой, со сверкающим взором, угрюмою и краткою речью, почти не понимавший по-русски, порою казался ближе и душепонятнее Ольгерда.
Кейстут был рыцарь с высоким понятием о благородстве и чести, но кто был Ольгерд?
Ульяна признавалась Михаилу в те редкие мгновения, когда они оставались одни, что, родивши столько детей, до сих пор не понимает и порою боится своего мужа.
– Я только раз видела, как он смеется ото всей души! – сказала она. – Это когда разбили татар и захватили Подолию. Мнится, брате, ему власть дороже и меня, и детей, и просто всего на свете!
Ульяния говорила по-русски с едва заметным, правда, отзвуком литовского говора. И это паче возраста и прожитых здесь лет отдаляло ее от Михаила. И смерть матери… Она без конца поминала Настасьин приезд, радовалась и плакала, уверяя, что мама предчувствовала свой конец заранее, потому и приезжала гостить, потому и гостила у нее столь долго…
Ниточки, те тончайшие сердечные струны, что паче слов и уверений связывают ближников, то и дело рвались меж ними, и Михаил все терял, все не находил того давнего, когда он таскал Ульянию на руках или бегал с нею наперегонки по переходам тверского терема. Дети все время облепляли ее, отрывали от брата, не давали побыть вдвоем, воспомнить старину – да и желала ли она того слишком сильно? И то было неведомо Михаилу!