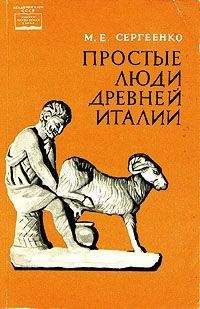Мария Сергеенко - Жизнь древнего Рима
Если жилищные условия у сельского раба были плохи, то у городского они были еще хуже. В инсуле особого помещения для него не было; рабы притыкались где придется, лишь бы найти свободное местечко. О кроватях нечего было и думать. Марциал, укладывая раба на «жалкую подстилку», писал, видимо, с натуры (IX. 92. 3).
Этот горький быт делала еще горше полная узаконенная зависимость раба от хозяина — от его настроения, прихоти и каприза. Осыпанного милостями сегодня, завтра могли подвергнуть жесточайшим истязаниям за какой-нибудь ничтожнейший проступок. В комедиях Плавта рабы говорят о порке, как о чем-то обычном и повседневном. Розги считались самым мягким наказанием, страшнее был ременный бич и «треххвостка» — ужасная плеть в три ремня, с узлами на ремнях, переплетенных иногда проволокой. Именно ее требует хозяин, чтобы отстегать повара за недожаренного зайца (Mart. III. 94). Эргастул и колодки, работа на мельнице, ссылка в каменоломни, продажа в гладиаторскую школу — любого из этих страшных наказаний мог ожидать раб, и защиты от хозяйского произвола не было. Ведий Поллион бросал провинившихся рабов в пруд на съедение муренам: «только при такой казни он мог наблюдать, как человека сразу разрывают на куски» (Pl. IX. 77). Хозяйка велит распять раба, предварительно вырезав ему язык (Cic. pro Cluent. 66. 187). Случай был не единственный; о таком же упоминает Марциал (II. 82). Зуботычины и оплеухи были в порядке дня, и люди вроде Горация и Марциала, которые отнюдь не были злобными извергами, считали вполне естественным давать волю рукам (Hor. sat. II. 7. 44; Mart. XIV. 68) и отколотить раба за плохо приготовленный обед (Mart. VIII. 23). Хозяин считает себя вправе не лечить заболевшего раба: его просто отвозят на остров Асклепия на Тибре и там оставляют, снимая с себя всякую заботу об уходе за больным. У Колумеллы мелькнули хозяева, которые, накупив рабов, вовсе о них не заботятся (IV. 3. 1); разбойник Булла говорит властям, что если они хотят положить конец разбою, то пусть заставят господ кормить своих рабов (Dio Cass. LXXVII. 10. 5).
Многое, конечно, зависело от хозяина, от его характера и общественного положения. Раб, которого солдат в качестве военной добычи приводил к себе домой, в свой старый крестьянский двор, сразу оказывался равным среди равных; ел ту же самую пищу, что и все, и за тем же самым столом, спал вместе со всеми в той же хижине и на такой же соломе; вместе с хозяином уходил в поле и трудился наравне с ним. Хозяин мог оказаться злым на работу и не давать на ней спуску, но он сам работал, не щадя сил и не жалея себя; он мог прикрикнуть на раба, но также кричал он и на сына, и в его требовательности не было ничего обидного или унизительного. В простой рабочей среде не было глупых прихотей и злого самодурства, когда какой-нибудь сенатор требовал, чтобы раб не смел раскрыть рта, пока его не спросят, и наказывал раба за то, что он чихнул или кашлянул в присутствии гостей (Sen. epist. 47. 3).
Были среди римских рабовладельцев не одни изверги; мы знаем и добрых, по-настоящему человечных и заботливых хозяев. Такими были Цицерон, Колумелла, Плиний и его окружение. Плиний позволяет своим рабам оставлять завещания, свято выполняет их последнюю волю, всерьез заботится о тех, кто заболел; разрешает им приглашать гостей и справлять праздники. Марциал, описывая усадьбу Фаустина, вспоминает маленьких vernae, рассевшихся вокруг пылающего очага, и обеды, за которыми «едят все, а сытый слуга и не подумает завидовать пьяному сотрапезнику» (III. 58. 21 и 43–44). У Горация в его сабинском поместье «резвые vernae» сидели за одним столом с хозяином и его гостями и ели то же самое, что и они (sat. II. 6. 65–67). Сенека, возмущавшийся жестокостью господ, вел себя со своими рабами, вероятно, согласно принципам стоической философии, которые провозглашал.
Мы не можем установить статистически, кого было больше, плохих или хороших хозяев, и в конце концов это не так важно; и в одном и в другом случае раб оставался рабом; его юридическое и общественное положение оставалось тем же самым, и естественно поставить вопрос, как влияло рабское состояние на человека и какой душевный склад оно создавало. Какие были основания у Тацита и Сенеки говорить о «рабской душе» (ingenium ser vile)?
Чужой в той стране, куда его занесла злая судьба, раб равнодушен к ее благополучию и к ее несчастьям; его не радует ее процветание, но и горести ее не лягут камнем на его душу. Если его забирают в солдаты (во время войны с Ганнибалом два легиона были составлены из рабов), то он идет не защищать эту безразличную ему землю, а добывать себе свободу: он думает о себе, а не обо всех. Люди отняли у него все, чем красна жизнь: родину, семью, независимость, он отвечает им ненавистью и недоверием. Далеко не всегда испытывает он чувство товарищества даже к собратьям по судьбе. В одной из комедий Плавта хозяин дома велит своей челяди перебить ноги каждому соседскому рабу, который вздумал бы забраться к нему на крышу, кроме одного, и этот один отнюдь не обеспокоен судьбой товарищей: «плевать мне, что они сделают с остальными» (Miles glorios. 156–168). Объединение гладиаторов, ушедших со Спартаком, или тех германцев, которые, попав в плен, передушили друг друга, чтобы только не выступать на потеху римской черни, явление редкое — обычно другое: люди, которые живут под одной крышей, ежедневно друг с другом встречаются, разговаривают, шутят, рассказывают один другому о своей судьбе, своих бедах и чаяниях, хладнокровно всаживают нож в горло товарищу. Цирковые возницы не остановятся перед любой хитростью, обратятся к колдовству лишь бы погубить товарища-соперника. В мирной обстановке сельской усадьбы хозяин рассчитывает на то, что рабы будут друг за другом подглядывать и друг на друга доносить. Раб отъединен от других, заботится только о себе и рассчитывает только на себя.
Раб лишен того, что составляет силу и гордость свободного человека, — у него нет права на свободное слово. Он должен слыша не слышать и видя не видеть, а видит и слышит он многое, но высказать по этому поводу свое суждение, свою оценку не смеет. Перед его глазами совершается преступление — он молчит; и постепенно зло перестает казаться ему злом: он притерпелся, обвык, нравственное чутье у него притупилось. Да и чужая жизнь интересна ему только в той степени, в какой от нее зависит его собственная; в этом мире единственное, что есть у него, — это он сам, и его будущее зависит только от него. По странной иронии судьбы этот человек, став «вещью», оказывается кузнецом своей судьбы. Ему надо выбиться из своего рабского состояния, и он выбирает путь, который кажется ему наиболее верным и безопасным: он опутывает душу хозяина ложью и лестью — усердно выполняет все его приказания, повинуется самым гнусным его прихотям; «что бы ни приказал господин, ничто не позорно», — скажет Тримальхион. Умный и наблюдательный, он быстро подмечает пороки и слабости хозяина, ловко потакает им, и скоро хозяин уже не может обойтись без него: он становится его правой рукой, советником и наперсником, заправилой в доме, грозой остальных рабов, а иногда и несчастьем для всей семьи (история Стация, раба, а потом отпущенника Цицеронова брата Квинта). Он изгибается перед хозяином: хозяин — сила, и высокомерно дерзок со всеми, в ком нет силы. Если ему будет выгодно предать хозяина и донести на него, он предаст и донесет. Моральные колебания ему неизвестны; законы нравственности его не связывают: он не подозревает об их существовании. «Сколько рабов, столько врагов», — поговорка возникла на основании опыта и наблюдения.
Не все рабы были, конечно, таковы. Были люди, которые не мирились со своей рабской судьбой, но сбросить ее путем угодничества и пресмыкания не могли и не умели. Жизнь их становилась сплошным протестом против законов злого и несправедливого мира, который подчинил их себе. Протест этот мог выражаться очень различно в зависимости от нравственного склада и умственного уровня. Одни становились просто «отчаянными»: ни плети, ни колодки, ни мельница ничего с ними не могли поделать; они пили, буянили, дерзили: это был их способ выражать свою ненависть и свое презрение к окружающему. Другие умело эту ненависть скрывали, копили ее в себе, ожидая своего часа, и когда он приходил, обрушивали ее все равно на кого, лишь бы на сытых и одетых, на тех, кто походил на человека, который ими помыкал и втаптывал в грязь. Они расправлялись с хозяином, сбегали, уходили в разбойничьи шайки, жадно прислушивались, нет ли где восстания. В войске Спартака было много таких.
Люди, более мирные и обладавшие малым запасом внутренней силы, мирились со своей долей и старались только устроиться так, чтобы рабское ярмо не слишком натирало им шею. Они прилаживались к дому и всему домашнему строю и жили со дня на день, не заглядывая дальше сегодня, потихоньку ловчась и выгадывая себе хоть крохотный кусочек жизненных удобств и удовольствий. Полюбоваться на гладиаторов, забежать в харчевню и поболтать с приятелем, съесть кусочек мяса, отведать жирной лепешки, зайти к дешевой продажной женщине, — бедный, ограбленный людьми человек ни о чем больше не мечтал. Если он попадался на какой-нибудь не очень невинной проделке, вроде подливания воды вместо отпитого вина или на краже нескольких сестерций, и извернуться никак не удавалось, он мужественно терпел побои: неприятностей в жизни не избежать, и умение жить заключается в том, чтобы проскользнуть между ними, не очень ободрав себе кожу. Комедия любила выводить таких рабов; Плавт без них почти не обходится.