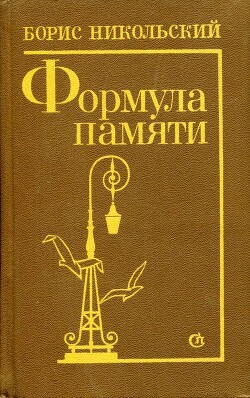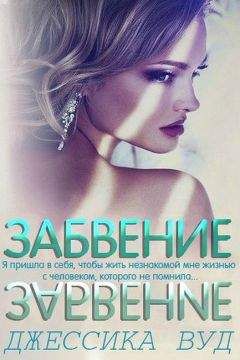Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй половины XX и начала XXI века - Борозняк Александр Иванович
Общеупотребительной стала формула «вторая германская диктатура», а к «двенадцати годам Третьего рейха» механически прибавляются «сорок лет диктатуры СЕПГ». С точки зрения консервативной публицистики, «подлинно тоталитарным государством» была ГДР, а не нацистская диктатура. В недрах последней вдруг начали даже «открывать» элементы «гражданского общества» (!) или называть ее «нормальной тиранией». Характерны откровения издателя Вольфа Зидлёра: «Третий рейх был, разумеется, всего лишь авторитарным режимом. Жизнь бюргеров после 1933 г. в общем и целом не изменилась… Но “реальный социализм” был по-настоящему тоталитарным режимом» [835]. Впрочем, предтечей такой установки был Аденауэр, который говорил в 1950 г.: «Нашим людям еще предстоит узнать, что давление, которое испытывали немцы со стороны гестапо, концлагерей и судебных приговоров, было мягким по сравнению с тем, что происходит в восточной зоне» [836].
Не так уж часто слышны голоса протеста против нового варианта вытеснения коричневого прошлого из социальной памяти, — В Берлине, Мюнхене, Бонне мне довелось стать участником нескольких дискуссий, в ходе которых шло обсуждение проблематики «двух германских диктатур». Диспуты шли под вполне корректным общим девизом verglichen, aber nicht gleichsetzen — «сравнивать, но не уподоблять», на деле же неизменно брала верх совсем иная тенденция.
Ганс Моммзен, никогда в прошлом не страшившийся идти против течения, остался верным самому себе. Он выступил против попыток «интерпретировать режим СЕПГ в ГДР как продолжение Третьего CV рейха». Такие трактовки, подчеркивает историк, «нередко базируются на сравнении поверхностных явлений», при этом «эвристическое сопоставление двух враждебных политических систем, чревато опасностью упустить из виду их принципиальные различия» [837]. Уподобление ГДР и гитлеровской Германии, отмечает Вольфганг Випперман, «абстрагируется от нацистской агрессивной войны и массовых убийств по расовым мотивам. Но позволительно ли абстрагироваться от Освенцима?» [838].
Опасения немецких ученых во многом разделяются российскими специалистами. В 1996 г. в Москве был опубликован квалифицированный перевод книги Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма». Автор послесловия к русскому изданию Юрий Давыдов определяет научную и политическую значимость классического труда: «Первое и, быть может, самое главное, чему учит нас книга Арендт, — это предельно серьезному и аккуратному обращению с ее заглавным понятием. Не шутить с ним! Не кокетничать и не заигрывать! Ибо обозначает оно слишком серьезные вещи, стоившие жизни миллионам и миллионам людей… Или мы хотим работать с теоретически выверенным понятием тоталитаризма, предполагающим столь же строгие и четкие хронологические рамки его исторической релевантности. Или же занимаемся чистым идеологизаторством, — скажем, с целью набить себе политическую цену» [839].
Теория тоталитаризма рассматривает — в противоречии с постулатами исторического метода — соответствующие режимы в статике, а не в динамике, не содержит удовлетворительного описания изменений внутри общества, оказавшегося под властью тоталитаризма. Прогностические функции концепции тоталитаризма оказались достаточно ограниченными. С самого начала ее сторонники исходили из того, что с террористическими режимами можно покончить только в результате удара извне. Никто из зарубежных ученых, опиравшихся на эту теорию, не сумел предугадать крушения СССР и ГДР.
Существует опасность того, предупреждает немецких историков Юрген Хабермас, что «в слепящем свете второго прошлого поблекнет память о первом прошлом», а «груз короткого сталинистского и сравнительно длительного авторитарно-сталинистского периодов перевесит тяжесть нацистского времени» [840]. Герберт Обенаус резонно замечает: «Замещение памяти о национал-социализме памятью о ГДР может привести к тому, что одна часть немцев будет освобождена от обременительного прошлого», а жители Восточной Германии «будут тащить на себе двойной груз национал-социализма и режима СЕПГ» [841].
Трудно поверить, но порой словосочетание «преодоление прошлого» охотно употребляется теми, кто раньше и слышать не хотел об этом понятии. Но какое «преодоление» и какого «прошлого»? Консервативные публицисты торжествуют: «Столько лет выносили приговоры Федеративной Республике, которая-де была не готова или не хотела начать все сначала и честно рассчитаться с прошлым, но теперь наш взгляд обращен на Восток» [842]. Комментируя подобные высказывания, Кристоф Клессман приходит к вполне определенному заключению: «Поспешная радикальность в обращении с наследием государства СЕПГ компенсирует угрызения совести, связанные с пробелами в извлечении уроков из нацистской диктатуры» [843].
«Современная» трактовка тоталитаризма стала, по меткому определению Вольфганга Виппермана (применившего широко известный каждому немцу образ из трагедии Шиллера «Вильгельм Телль»), «гесслеровской шляпой, перед которой должны склонять голову все истинные демократы» [844]. Но Випперман все же надеется на то, что общественное сознание «прекратит сбрасывать красных, зеленых и коричневых в один и тот же тоталитаристский котел» [845].
В последнем десятилетии XX в. в ФРГ выросло влияние течений в исторической науке и в исторической публицистике, которые можно объединить в рамках понятия «новые правые». Представители этой части интеллектуальной элиты ничуть не похожи на вызывающих всеобщее подозрение неонацистов. На университетских исторических и политологических кафедрах, в издательствах, редакциях газет и журналов, на телевидении, в компьютерной сети и на видеорынке относительно прочные позиции ныне занимают бесцеремонно-напористые, респектабельные, хорошо образованные, лишенные комплексов профессионалы молодого и среднего возраста. «Быть правым, — отмечал еженедельник «Die Zeit», — ныне считается шикарным, правые вдруг объявлены последним прибежищем духа» [846]. Их цель — формирование общества «без продолжающегося преодоления прошлого» [847].
Представители «новых правых» от историографии, группирующиеся вокруг Райнера Цительмана, объявили себя сторонниками «сколь желаемой, столь и неизбежной историзации национал-социализма». «Историзация» трактуется при этом как отказ от «черно-белых стереотипов», «морализирования», «примата педагогических намерений над научно-историческими усилиями». Объединение Германии именуется шансом, полученным немцами для того, чтобы «покончить с левоинтеллектуальным рефлексом ненависти, направленной на самих себя» [848].
Для Цительмана совершенно неприемлемы перемены в общественном сознании ФРГ, которые ассоциируются с «поколением 68-го». Выдвигая тезис о «двойной травме» германской истории, он утверждал, что студенческое движение сопоставимо по своим негативным последствиям с захватом власти нацистами [849]. Цительман не упустил возможности возвести хулу на произнесенную в 1985 г. речь Рихарда фон Вайцзеккера, наполненную «обвинениями по адресу немецкого народа и его истории», «левыми стереотипами» и «ничего не значащей словесной пеной» [850].
![Владимир Рыбин - Включите вашу память [=Если разбудить память]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)