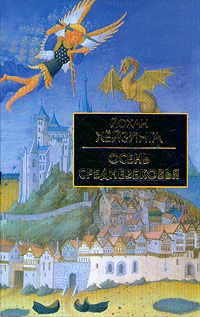Йохан Хёйзинга - Осень Средневековья
Всё, что узнаёшь о повседневной религиозной жизни этого времени, постоянно говорит о сменяющих одна другую чуть не противоположных крайностях. Презрительное поношение священников и монахов всего лишь оборотная сторона всеобщего расположения к ним и глубокого почитания. Так же и наивно поверхностное понимание религиозного долга может смениться вдруг чрезмерною пылкостью. В 1437 г., по возвращении короля Франции в свою столицу, служат торжественную панихиду за упокой души графа Арманьяка, ставшего жертвой вражды с бургиньонами, смертью которого началось только что миновавшее смутное время. Устремившиеся к собору толпы народа жестоко разочарованы тем, что никакой раздачи денег, однако, не происходит. Ибо те добрые четыре тысячи, которые явились туда, по простодушному свидетельству Парижского горожанина, ни за что не пришли бы, не надейся они на то, что им там что-нибудь да перепадет. «Et le maudirent qui avant prièrent pour lui»827 [«И проклинали его те, кто прежде возносил за него молитвы»]. И это тот же самый народ Парижа, который обливался слезами при виде бесчисленных религиозных процессий; те же люди, которых заставляли трепетать пламенные слова странствующих проповедников. Гиллеберт дё Ланнуа видел, как вспыхнувший было в Роттердаме бунт тотчас же стих, едва священник вознес над головою Corpus Domini [Тело Господне]828.
Резкие противоречия и переходы из одной крайности в другую проявляются в религиозной жизни немногих образованных людей в той же степени, что и у невежественной толпы. Религиозное озарение всегда приходит как внезапное потрясение, всегда это ослабленное повторение того, что пережил Франциск Ассизский, когда вдруг ощутил слова Евангелия как приказ, который обращен к нему лично. В присутствии некоего рыцаря произносится формула крещения, слова, которые он слышал, быть может, десятки раз, – теперь же вся их святость и чудодейственная сила как бы пронзают его насквозь; отныне намерен он, единственно лишь в воспоминание о святом крещении, отражать нападения диавола, не прибегая даже к помощи крестного знамения829. – Герой книги Le Jouvencel должен присутствовать на поединке; каждый из противников готов уже принести присягу на гостии в том, что право на его стороне. И тут рыцаря охватывает сознание неизбежности того, что присяга одного из них будет ложной и тем самым тот будет осужден на вечное проклятие. Он восклицает: не присягайте, ставьте заклад в пятьсот экю и деритесь без всякой клятвы830.
Благочестие высшей знати, чья жизнь была обременена безудержной роскошью и неумеренными наслаждениями, именно по этой причине нередко принимает столь же импульсивный характер, как и народное благочестие. Карл V Французский не раз бросает охоту в самом разгаре, чтобы вовремя отправиться к мессе831. Юная Анна Бургундская, супруга герцога Бедфордского, английского правителя захваченной Франции, однажды вызвала раздражение парижских горожан тем, что, промчавшись на всём скаку вдоль процессии, всех обдала грязью. Но зато в другой раз она среди ночи расстается с красочным упоением придворного празднества, чтобы поспеть к заутрене у целестинцев. А ее горестная ранняя смерть была следствием болезни, которой она заразилась при посещении больных бедняков в Hôtel Dieu832 833.
До непостижимых крайностей доходит противостояние благочестия и греховности в такой личности, как Людовик Орлеанский. Среди откровенных служителей наслаждения и богатства он поистине дитя этого мира, более всех других обуреваемое страстями. Он пускается даже в чародейство и заклинания и решительно отказывается их оставить834. И тот же Людовик Орлеанский достаточно религиозен, чтобы иметь свою келью в дормитории монастыря целестинцев; он разделяет с монахами их монастырскую жизнь, среди ночи идет к заутрене и часто выстаивает по пять или шесть месс за день835. Жуткое впечатление производит сочетание религиозности и преступности у Жиля дё Ре, который, совершая детоубийства в Машкуле, заказывает для спасения своей души мессу в память о Невинноубиенных младенцах и выражает удивление, когда судьи называют его еретиком. И хотя набожности других сопутствовали грехи, принимавшие не столь багровый оттенок, своего рода тип светского благочестия был далеко не редок: варвар Гастон Феб, граф дё Фуа; ветреный король Рене; утонченный Шарль Орлеанский. Иоанн Баварский, жестокосердый и властолюбивый, под чужою личиной приходит к Лидвине из Скидама, дабы побеседовать с нею о своей душе836. Жан Кустен, коварный слуга Филиппа Доброго, безбожник, едва ли отстоявший хоть одну мессу и никогда не подававший милостыни, – отданный палачу, на своем грубом бургундском жаргоне страстно взывает к Богу837.
Сам Филипп Добрый – великолепный пример того, как набожность могла сочетаться с чисто мирскими помыслами. Человек, живший среди пышных празднеств, имевший множество внебрачных детей, хитрый и расчетливый политик, отличавшийся непомерной надменностью и гневливостью, он при этом искренне набожен. По окончании мессы он долго еще молится, преклонив колена. Четыре дня в неделю он постится и сидит на воде и хлебе – не считая канунов праздников Девы Марии и святых апостолов. Часто в четыре часа пополудни у него еще не было и крошки во рту. Он раздает немало милостыни, и делает это втайне. Так же тайно велит он служить заупокойные мессы по каждому своему скончавшемуся подданному, придерживаясь при этом твердо установленного тарифа: 400–500 по барону, 300 по рыцарю, 200 по дворянину, 100 по слуге (varlet)838. Неожиданно захватив Люксембург, он после окончания мессы столь долго остается погруженным в свой бревиарий839, добавляя затем особые благодарственные молитвы, что ожидающая его свита, не слезавшая с коней, поскольку битва всё еще продолжалась, начинает проявлять нетерпение: неужели герцог не может в другой раз прочитать все свои Pater Noster. Его предостерегают, что долее медлить опасно. Но Филипп отвечает лишь: «Si Dieu m’a donné victoire, il la me gardera»840 [«Коли Господь даровал мне победу, он и сохранит ее для меня»].
Во всём этом следует видеть не напускное поведение святоши, не пустое лицемерие, но напряженное состояние человека, находящегося между двумя духовными полюсами, состояние, которое ныне едва ли возможно. Только всеохватывающий дуализм воззрения, противопоставляющего мир, полный греховности, – Царству Божьему, допускает такую возможность. В душе человека Средневековья все наиболее высокие и наиболее чистые чувства абсорбируются в религии, тогда как естественные, чувственные влечения, сознательно отвергаемые, по необходимости снижаются до уровня мирского, почитаемого греховным. В средневековом сознании формируются как бы два жизненных воззрения, располагающиеся рядом друг с другом; все добродетельные чувства устремляются к благочестивому, аскетическому – и тем необузданнее мстит мирское, полностью предоставленное в распоряжение диавола. Когда что-нибудь одно перевешивает, человек либо устремляется к святости, либо грешит, не зная ни меры, ни удержу; но, как правило, эти воззрения пребывают в шатком равновесии в отношении друг друга, хотя чаши весов то и дело резко колеблются, устремляясь вверх или вниз, и мы видим обуреваемых страстями людей, чьи пышно расцветшие, пылающие багряным цветом грехи временами заставляют еще более ярко вспыхивать рвущееся через край благочестие.
Когда средневековый поэт слагает благочестивейшие хвалебные гимны вслед за стихами, полными всяческого богохульства и непристойностей, как это делали многие: Дешан, Антуан дё ля Салль, Жан Молине, – у нас еще меньше оснований, чем это могло бы быть в случае с современным поэтом, относить эти произведения к гипотетическим периодам творчества: приверженности мирскому – или раскаянию. Такая противоречивость для нас почти непостижима, но нам следует с ней примириться.
Свойственное этому времени пристрастие к роскоши причудливо сочетается с проявлением строжайшего благочестия. Необузданная потребность красочно расцвечивать или украшать всё в жизни или в воображении проявляется не только в отягощении веры произведениями живописи, ювелирного искусства или скульптуры. В антураж духовной жизни вторгается подчас жажда блеска и красочности. Брат Фома яростно обличает богатство и роскошь, но его собственные подмостки, с которых он проповедует, украшены самыми дорогими коврами, какие только удается достать его почитателям841. Филипп дё Мезьер – ярчайший пример такого благочестия, отмеченного пристрастием к роскоши. Для ордена Страстей Христовых, который он хотел основать, всё имевшее отношение к одеянию он продумывает до мельчайших подробностей. То, о чем он мечтает, – поистине праздник цвета. Рыцари, соответственно рангу, будут носить алое, зеленое, багряное и голубое; гроссмейстер – белое; белыми будут также праздничные одеяния. Крест будет алого цвета, пояс – кожаный или шелковый, с роговой пряжкой, с бронзовыми позолоченными украшениями. Башмаки – черные, капюшон – красный. Орденская одежда братьев, слуг, клириков и женщин также описана с большой тщательностью842. – Известно, что затея эта не привела ни к чему; Филипп дё Мезьер на протяжении всей своей жизни оставался величайшим фантазером, грезившим о новом крестовом походе, строившим всё новые и новые планы. И вот в Париже, в монастыре целестинцев, он нашел то, что могло его полностью удовлетворить: так строг был устав этого ордена, так сверкало золото и драгоценные камни в церкви и монастыре, усыпальнице блистательной знати843. Кристина Пизанская считала эту церковь поистине воплощением прекрасного. Некоторое время дё Мезьер пребывал в монастыре как мирянин, разделял строгую жизнь его насельников и поддерживал также связи с владетельными особами и выдающимися умами своего времени – артистически-светский двойник Херарта Хрооте. Он привлек туда и своего сиятельного друга Людовика Орлеанского, который обрел там раскаяние в грехах своей разнузданной жизни, а также место своего раннего упокоения. Разумеется, не случайно двое таких любителей роскоши, как Людовик Орлеанский и его дядя Филипп Храбрый, герцог Бургундский, в поисках места, где они могли бы удовлетворить свою любовь к искусству, стремились к гостеприимству монастырей с самым строгим уставом; именно там контраст с жизнью монахов еще сильнее подчеркивал блистающее великолепие и роскошь: Людовик Орлеанский направляется к целестинцам, Филипп Храбрый – к картузианцам, в Шаммоль, близ Дижона.