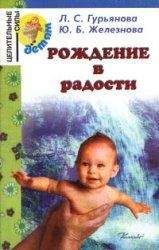Константин Федин - Первые радости (Трилогия - 1)
- Кто - он?
- Ну, про что он тебе распорядился?
Старик шагнул к столу и взял письмо.
- Что вы хотите? Нельзя! Это мое! - почти закричала Вера Никандровна. - Отдайте!
Шаль упала ей в ноги, косица рассыпалась на пряди, она тянулась к старику, стараясь вырвать письмо. Он оттолкнул ее властно, подошел к печке, бросил письмо на шесток и достал из кармана спички.
- Прочитала? - спросил он грубо и сам ответил: - Прочитала. Запомнила? Запомнила. Баста. Делай на моих глазах, что наказано. Поняла?
Он чиркнул спичку, зажег письмо и спокойно дождался, пока пламя, обрадованно взлетев, сникло и пропало. Он взял в пригоршню пепел и растер его ладонями.
- Давай, что ль, свою писульку, - буркнул он добрее.
Она отдала записку и неожиданно, с каким-то благодарным светом на горящем лице, сказала:
- Погоди.
Она распахнула створку шкафчика в столе и достала бутылку темно-зеленого блестящего стекла. Попробовав вытащить пробку, она сломала ноготь и принялась разыскивать штопор.
- Погоди егозить, - отечески остановил гость.
Коричневыми покривленными пальцами он подцепил пробку, как клещами, и легко вытянул ее из горлышка. Вера Никандровна наполнила стаканчик маслянистой исчерна-рыжей наливкой. Старик снял картузик.
- А себе? - сказал он.
Она налила рюмку. Он стер указательным пальцем клейкую каплю, тяжело сползавшую с бутылки, облизал палец, приподнял стаканчик, слегка подмигнул маленьким сощуренным глазом, спросил:
- За сына, что ль, за твово?
- Ты знаешь его? Да?
Не отвечая, он выцедил наливку до дна, зажмурился и потряс головой.
- Вишневка?
- Сливянка. Так знаешь моего Кирилла?
Все еще не размыкая туго сжатых век, он крякнул:
- Язви-тя! Прямо - престольная, ей-богу.
Потом чуть-чуть приоткрыл глаза и еще раз подмигнул:
- Сына-то?
Он вытер губы, одним движением забрав в кулак и потянув клин бороды.
- С лица-то он в тебя...
- Да, да, он очень похож! - восхищенно подхватила она. - Где ты его видел? Когда?
Счастливая, взбудораженная нетерпеньем, она ждала его рассказа, но он сразу нахмурился, аккуратно впихнул записку за голенище, деловито поднялся, подал руку.
- Благодарим за угощенье. Нам пора.
Не совсем ловко сгибаясь, он вылез в сени, и там она уже не решилась повторять расспросы. Он исчез в том же мраке, из которого явился, безмолвнее и внезапнее, чем пришел.
Вера Никандровна не легла спать. Она сидела на постели до тех пор, пока рассвет не прочертил ровненькие линеечки в щелях ставен. Она вышла на улицу.
Утро было по-ноябрьски злое, белесые тучи свисали на землю, и со станции тяжело поднимались к ним густые, медлительные дымы. Они будто состязались в разноцветности окрасок, - сизо-синие, золотисто-рыжие на путях, огненно-багровые, вишнево-черные над цехами депо, они, как косы лентами, были перевиты молочными струями пара, перегонявшими их по пути к небу, где все соединялось в сплошную навись гари.
Вера Никандровна долго стояла, глядя на незнакомую борьбу дымов, которая словно грозила захватить собой весь мир. Запахи угля, нефти, пережженного масла и красок накатывались временами через огромный, застеленный пылью пустырь. Множились, распространялись, вырастали железные стуки и скрежет.
Но утренний свет прибывал и прибывал неуклонно, и ей казалось - она уже неотделима от маленького незаметного флигелька, у которого встречала это утро и который теперь надолго становился ее новым домом.
Она открыла ставни окон.
32
Вскоре после свадьбы Лизы выдался золотой день, точно затерявшаяся карта из давно сыгранной колоды. Решено было отменить всю намеченную программу удовольствий и идти на яхте.
За рулем сидел Витенька, на парусах менялись двое его закадычных друзей. Лиза устроилась на носу. Ветер дул боковой, шли попеременно правым и левым галсом, выписывая широкую кривую от песков к берегу и назад к пескам, и Лиза вскрикивала на поворотах, когда перекидываемый парус валил яхту с борта на борт. Лизе не было страшно, она вскрикивала от удовольствия и потому, что это веселило яхтсменов и они смеялись. Яхта была крашена в белое с голубым и носила имя "Лепесток". И правда, легко послушная, она летела по бутылочно-зеленой чешуйчатой волне, и парус ее был похож на загнутый край белого лепестка.
Когда вышли на стрежень, Зеленый остров развернулся всею ширью своих зарослей. Они уже перекрасились по-осеннему - ивово-серебряная поредевшая листва была почти проглочена лимонным тоном, местами - в пятнах табачного оттенка, нежно сливавшегося с неаполитанской желтизной песка.
Шипуче вкололся киль яхты в податливый берег острова, и шумное щелканье хлеставших друг друга ветвей тальника заполнило собою весь простор между рекой, землей и синим небом.
Все выпрыгнули на берег, зачерпнув башмаками рассыпчатого тонкого песка. Раскинули вместо ковра большой парус, расставили посуду. Витенька попробовал свой тенор. Это был голос неискушенного, любящего себя слушать певца, он высоко поднялся и быстро упал, как загоревшаяся солома, и Лиза удивленно вытянула шею, открывая в муже неизвестное и довольно внушительное качество. Выпив вина, попробовали спеть хором, но ни одной песни никто не знал до конца. Дружнее всего получались студенческие куплеты, которых тоже не помнили толком, но зато повторяли с удовольствием.
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
А Харлампий святой,
С позлаченной главой,
Смотрит сверху на них, улыбается.
Он и сам бы не прочь
Прогулять с ними ночь,
Да на старости лет не решается.
Но соблазн был велик,
И решился старик,
дальше что-то выходило нескладно, хотя всем было известно, что старик спустился со своих высот, отвел со студентами душеньку, за что и был исключен из святого сословия неумолимым небесным советом.
Почему-то и Витюша, и - особенно - Лиза взгрустнули, заговорив о бесшабашной жизни. В самом деле, судя по рассказам, какая прелесть московские ночные чайные, где извозчики едят яичницу и тертую редьку; как уютно сидеть на бульваре, перелистывая конспект лекций, а иногда и задремывая на плече друга; как должны развлекать переезды с корзинкой белья, подушкой и связкой книжек от одной хозяйки к другой; как поэтичны походы на Воробьевы горы, откуда видны сотни газовых уличных фонарей и фейерверки народных гуляний; как забавно сдавать друг за друга зачеты рассеянным профессорам или ходить всем по очереди в одном и том же мундире на вечеринки.
- Жалко только, что эти студенты лезут в политику и портят себе веселую жизнь, - сказал Витюша.
- Да, - согласился приятель, - занимаются сбором денег для ссыльных, заводят оружие, потом устраивают беспорядки. Тут, на острове, есть место, куда студенты приезжали учиться стрелять. Хотите, покажу?
- Недалеко?
- Вон, где большие деревья.
Решили пойти смотреть. Тальник гибко расступался, пропуская тянувшихся гуськом пришельцев, и тотчас плавно смыкал свои прутья за каждым в отдельности, так что казалось, будто чудовищный змий ползет зарослями, распяливая и сжимая кольца одночленного своего тела. Здесь человек терялся, как иголка в стоге сена, и недаром Зеленый остров был излюблен всеми, кто искал надежного уединения, - рыболовами, донжуанами, подпольщиками, самоубийцами, ружейными охотниками, беглецами. Природа покровительствовала равно всем, казня человеческие страсти мошкарою и комарами, вознаграждая ландшафтом, купаньем, привольным отдыхом на горячем пляже. Расцветками своих одежд остров отвечал самой утонченной мечте горожанина, и теперь, в осеннюю пору, озерца, заводи, лозовой подлесок, рощицы и одинокие деревья соединяли в себе удовлетворение и сладость после боли, как чувство матери после родов.
Вышли на поляну, окруженную ветлами и ольхою, между которыми поднимался бледноствольный косоплечий осокорь. Картина была уже подготовлена к переходу на зиму - помятое сухое былье на земле носило палевую окраску, деревья оголились, и небо ярко прорезывалось сквозь темную сеть их ветвей.
Объемистый ствол осокоря на высоте от пояса до головы человека был начисто облуплен от коры, и белая древесина его превращена в решето следами глубоко засевших пуль. Витюше удалось выковырнуть ножом одну расплющенную пулю, и приятели поспорили - какому оружию она принадлежит.
- Конечно, браунингу, - говорил Витенькин друг, - потому что теперь у боевой дружины только браунинги. Я знаю.
- А почему ты знаешь, когда был сделан выстрел?
- Потому что пуля не успела проржаветь. И потому, что она на самой поверхности. Старые пули сидят в глубине, а новые на поверхности. Ты что думаешь? Весь ствол насквозь забит свинцом. Видишь, дерево-то высохло.
Он потянул книзу большой корявый сук, который с хрустом отломился.
- Как хворост. Ты что думаешь? Может, в это дерево стреляла еще сама Перовская. Она сюда приезжала на сходку.