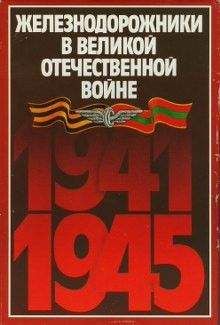Анатолий Уткин - Забытая трагедия. Россия в первой мировой войне
Было поздно. Толпа жгла полицейские участки, а в Кронштадте революционные матросы убили сорок офицеров. Царя остановили 14 марта в Пскове, а Петроградский Совет издал приказ номер один: отныне все командиры не назначались, а избирались своими подчиненными, все оружие контролировалось избранными комитетами. Из Могилева начальник штаба русской армии генерал Алексеев запросил командующих фронтами высказаться по вопросу о монархии. Из ответов следовало, что армия не будет защищать главнокомандующего. В половине второго дня 15 марта царь Николай узнал о своей судьбе. Не вступая в дискуссию, он телеграфировал Алексееву: «Ради благополучия, спокойствия и спасения моей горячо любимой России я готов отречься от трона в пользу моего сына» {309} . Падение царя было почти молниеносным. Как это могло произойти, не вызвав немедленно бурю? Только одно объяснение выдерживает критику: это значит, что многие тысячи, если не миллионы подданных русского царя задолго до того, как монарх был вынужден покинуть трон, пришли к внутреннему заключению, что царское правление не соответствует современным, г.в. западным стандартам. Запад вольно или невольно оказался катализатором взрыва в России. И этот взрыв, достигнув глубины народных масс, вызвал обратное движение, которое разрушило идеальные схемы постепенного сближения России с Западом.
Произошел кризис ускоренной насильственной модернизации. Железные дороги и дизельные моторы оказались лучшим доказательством превосходства Запада. Признав это превосходство, Россия предприняла попытку прямолинейного перехода к ускоренной вестернизации. Однако слишком резкий поворот вызвал к действию второй закон Ньютона, закон инерции, колоссальной инерции народных масс. И Русь-тройка на слишком крутом повороте перевернулась.
Наступил черный час России. Еще три года назад блистательная держава, осуществляя модернизацию, думала о мировом лидерстве. Ныне, смертельно раненная, потерявшая веру в себя, она от видений неизбежного успеха отшатнулась к крутой перестройке на ходу, к замене строя чем-то неведомым, ощущаемым лишь на уровне эмоций и фантазий. Запад, как завороженный, следил за саморазрушением одной из величайших держав мира. Была ли ситуация безнадежна в военном смысле? Эксперты утверждают, что нет. Будущий военный министр Британии полагал, что «перспективы были обнадеживающими». Союзники владели преимуществом пять к двум, фабрики всего мира производили для них вооружение, боеприпасы направлялись к ним со всех сторон из-за морей и океанов. Россия, обладающая бездонной людской мощью, впервые с начала боевых действий была экипирована должным образом. Двойной ширины железная дорога к незамерзающему порту Мурманск была наконец завершена… Россия впервые имела надежный контакт со своими союзниками. Почти 200 новых батальонов были добавлены к ее силам, и на складах лежало огромное количество всех видов снарядов. Не было никаких военных причин, по которым 1917 год не мог бы принести конечную победу союзникам; он должен был дать России награду, ради которой она находилась в бесконечной агонии. Но вдруг наступила тишина. Великая Держава, с которой мы были в таком тесном товариществе, без которой все планы были бессмысленны, вдруг оказалась пораженной немотой» {310}.
Счастлив ли был император на троне? Ему совершенно чуждо было отношение к власти, которое Наполеон характеризовал словами: «Я люблю власть; но я люблю ее, как художник, я люблю ее, как музыкант любит свою скрипку, чтобы извлекать из нее звуки, аккорды, гармонию». В этом смысле император Николай Второй не любил власть — он воспринимал ее как долг и ношу, но вовсе не видел в ней инструмента творения истории. При всем своем русском мистицизме он был человеком западной культуры, до известной степени англоманом. Он не давал Западу усомниться в своей лояльности, в верности своему слову (а именно, по этому параметру начали сравнивать с ним его наследников западный наблюдатели.)
В марте 1917 г. Западу было неясно то, что определенно известно сейчас: император Николай не хуже других видел надвигающуюся угрозу. Но он не знал средств ее предотвращения. С его точки зрения, именно самодержавие позволило России победно пройти сквозь смертельные опасности предшествующих столетий. Народ России показал невероятную для других степень выносливости и готовности претерпеть. Да, машина государства работала с перебоями и неэффективно, но она работала. И, полагал Николай, худшее позади. Осталось лишь несколько серьезных усилий. Изменить в этот момент всю систему государственного управления царь просто не мог. Все инстинкты царя протестовали против «смены лошадей на переправе». В смятении окружающих он видел измену.
Агония царского правительства, попавшего в нравственную и интеллектуальную западню, очевидна. Но ясно и то, что Дума и социальные революционеры требовали реализации таких условий, которые отторгались его сознанием. Царь был уверен, что собственно традиционность системы управления являет собой его силу. В конце концов, полагал монарх, Россия вынесла 1914, 1915 и 1916 годы — это ли не лучшее доказательство стойкости традиционной системы? В результате царь занял жесткую позицию в отношении компромиссов с Думой, бывшей тогда еще лояльной оппозицией.
Министр иностранных дел Покровский, обращаясь к Западу за советом, спросил у Палеолога, есть ли у императора шанс спасти корону? Тот ответил: это возможно лишь в том случае, если император назначит в качестве кабинета министров временный комитет Думы, амнистирует мятежников, лично выйдет к армии и народу, с паперти Казанского собора заявит, что для России начинается новая эра. Сегодня это возможно, но завтра будет поздно. Согласно Лукиану, «безвозвратное совершается быстро».
Демократическое правительство
Буржуазно-демократическая мартовская революция воспринималась мыслящей Россией как ускорение сближения с Западом. Казалось, что дело Петра получает новый импульс. Теперь Россия устанавливала у себя те политические нормы, которые прежде были отличительной чертой Запада. Когда Бьюкенен и Палеолог возвращались 13 марта из министерства иностранных дел, толпа на набережной узнала их и устроила овацию. Восставшие воспринимали социальный переворот как шаг России в направлении сближения с Западом, как приобщение России к подлинно парламентской демократии.
Кто возглавит новую Россию? На этот счет у Запада дурные предчувствия появились с самого начала, в чем он не расходился с проницательными русскими, скажем, с лидером кадетов Милюковым, который через три дня после начала революции увидел, что события уходят из-под контроля, что социальная революция — это не планомерная работа, что стабильность и подстраховка ушли надолго. У русской революции обнаружилась большая слабость — у нее не оказалось подлинного вождя. Старые министры (за исключением Покровского и морского министра адмирала Григоровича) были арестованы вместе с Штюрмером и митрополитом Питиримом. Как полагал, скажем, Бьюкенен, «если бы только среди членов Думы нашелся настоящий вождь, способный воспользоваться первым естественным движением восставших войск к Думе и сумел бы собрать их вокруг этого единственного легального конституционного учреждения в стране, то русская революция получила бы счастливое продолжение. Но такого вождя не оказалось» {311} . Случилось худшее — образовалось двоевластие, парализовавшее работу правительства. Петроградский совет, получив поддержку войск, сталь параллельной Думе властью.
С этих дней и до октября 1917 г. Россия лишилась подлинного правительства. Внешние формы главенства соблюдались, но реализация политики Временного правительства отличалась слабостью. Институты государства потеряли надежность. Самым большим сюрпризом для союзных с Россией стран явилась скорая и практически полная измена армии своему монарху, быстрая и почти тотальная измена царю со стороны военного сословия, от генералитета до солдат, от фронтовых частей до самых привилегированных гвардейцев. Революционное знамя поднял даже гарнизон Царского Села — во главе колонны шли наиболее обласканные короной войска, шли казаки свиты — великолепные всадники. За ними следовали внешне всегда надменные привилегированные части императорской гвардии. Появился полк Его Величества, своего рода священный легион, куда попадали лучшие, отобранные из представителей гвардейских частей — они специально предназначались для охраны царя и царицы. Затем прошел железнодорожный полк, которому вверялась охрана царя и царицы в пути. Шествие замыкала императорская дворцовая полиция — отборные телохранители, молчаливые свидетели повседневной интимной и семейной жизни царствующего дома. Вчера они охраняли царя, а сегодня заявляли о преданности новой власти, даже названия которой они не знали. Измена армии, по мнению Палеолога, поставила умеренных депутатов Думы, желавших спасения династического режима, перед «страшным вопросом, потому что республиканская идея, пользующаяся симпатией петроградских и московских рабочих, была чужда общему духу страны» {312}.