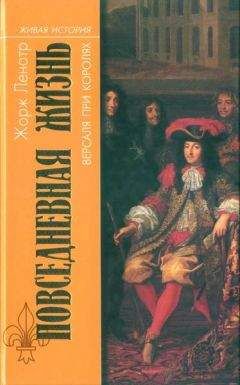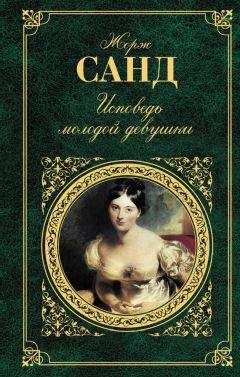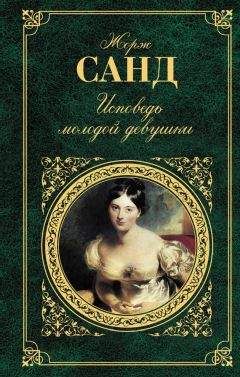Жорж Ленотр - Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции
«В день, когда я прибыл в тюрьму, — вспоминает Беньо, — двое людей ждало прихода палача. С них сняли верхнее платье, волосы их были распущены, а воротники раскрыты. Лица их не несли отпечатка особенного волнения. Намеренно или нет, но они держали руки в таком положении, в каком должны были быть привязаны, и старались держаться презрительно и гордо. Лежащие на полу матрацы указывали, что они ночевали здесь, уже перенеся пытку этой долгой мучительной ночи. Рядом виднелись остатки их последнего ужина. Платье их было разбросано по комнате, и две свечи, которые они не погасили, озаряли эту картину печальным мерцанием».
Миновав канцелярию и направляясь вглубь тюрьмы, наталкивались на другие двери, потом на третьи и четвертые… Направо оставались две узкие комнаты, таящиеся в самой глубине этого ужасного здания; из них беспрестанно слышались стоны, рыдания, вопли отчаяния; туда тюремщики запирали приговоренных женщин в ожидании казни. Несчастные мучились там около двадцати часов. Одна из этих комнат существует до сих пор: теперь она ограждена двумя толстыми решетками и постоянно освещена газовым рожком, до такой степени в ней темно. Укороченная в высоту часовней, она была обращена в 1793 году в больницу для арестантов. Она выходила левой стороной на женский двор, а правой — на Парижскую улицу, с которой был вход в мужскую половину.
Я знаю одного славного человека, которому доставлю большое огорчение: это сторож-чичероне, которому поручено каждый четверг сопровождать английских туристов, с «Бедекером»[341] в руках являющихся осматривать Консьержери. Басня, которую он рассказывает им, создана специально для удовлетворения их любопытства, и в то же время она дает возможность избежать щекотливых вопросов. Он с полной уверенностью показывает на весьма небольшом пространстве темницы всех знаменитостей: Андре Шенье, Робеспьера, госпожу Ролан и т. д. Надо иметь большое хладнокровие или недюжинные познания, чтобы заметить, что его рассказ не опирается ни на какие серьезные данные. Очень мало людей обладают такими познаниями; что же касается хладнокровия, то никто не в силах сохранить его во время осмотра Консьержери; даже в своем современном виде он остается одним из самых волнующих и драматических зрелищ Парижа. И этот честный сторож, вполне уверенный в правдивости своих слов и такой убедительный со своей седой бородой, в темном плаще, со связкой звенящих ключей в руках, пользуется неизбежным волнением своих случайных клиентов, чтобы разжечь интерес, который возбуждает даже в самых равнодушных людях эта знаменитая тюрьма, пересказывая им действительно происходившие здесь драмы.
Но у меня хватит смелости, и я скажу: нет, Консьержери нашего времени вовсе не похож на то, чем он был во времена террора. Во-первых, вход в него теперь находится со стороны набережной Часов, и что бы ни говорили историки, даже самые знаменитые, этому входу не более сорока лет. Сто лет назад строения Консьержери были со стороны набережной совершенно скрыты постройками, разраставшимися в изобилии, по мере надобности в них, вокруг старинного дворца Людовика Святого. Благодаря этим изменениям совершенно преобразились три огромных зала, ставшие теперь главной частью здания: зал Стражи, зал Людовика Святого и зал Парижской улицы. Впрочем, это изменение не вызывает особых сожалений, так как эти три зала представляют собой один из лучших образцов готической архитектуры во Франции. Зал Людовика Святого, если не превосходит красотой знаменитое «чудо моста Сен-Мишель», то, во всяком случае, не уступает ему. Но, чтобы представить себе, чем были эти залы в 1793 году, надо мысленно изрезать их благородные контуры тысячью перегородок, галерей, ширм; надо вообразить целый улей разросшихся в них камер, беспорядочно теснящихся одна над другой, кишащих узниками, червями и крысами… Кроме того, прежнее мужское отделение до того изменилось, что можно сказать, что его больше не существует. И это до такой степени верно, что официальный чичероне Консьержери даже не упоминает о нем. В старину оно состояло из темных строений с узкими окнами, поддерживаемых рядом стрельчатых арок, образующих в нижнем этаже навес для прогулок По нему можно было обойти вокруг довольно узкого и очень длинного двора, из которого видны были только небо да крыши остроконечных башен Дворца правосудия. В наше время мужское отделение превращено в тюрьму для одиночного заключения с удобными помещениями, широкими коридорами, с обилием воздуха, усовершенствованными галереями для прогулок и камерами, устроенными согласно последнему слову науки; словом, это образцовая тюрьма, чрезвычайно привлекательная, но совсем не живописная.
В общем, от старой тюрьмы уцелел лишь конец галереи, идущей от часовни к Майскому двору и упирающейся на середине пути в толстую стену, преграждающую ей дорогу. Почти нетронутым остался и женский двор; вот все, что сохранилось от знаменитой тюрьмы Консьержери. По мере того как разрушали старые стены, все их предания переселились в этот маленький уголок, поэтому чичероне может с искренним убеждением указывать там столько интересных мест и вызывать столько воспоминаний.
К тому же следует признать, что галерея эта была центром тюрьмы; соседство двора, где собирались женщины, возможность увидеть узниц сквозь решетку и даже разговаривать с ними — вот что привлекало сюда всех заключенных. Кроме того, здесь был вход в тюрьму; здесь постоянно проходили вновь прибывшие, отсюда близка была приемная, сюда вызывали в известные часы тех, кто должен был завтра предстать перед трибуналом, — все это беспрестанно притягивало сюда шумную, лихорадочно возбужденную толпу. Какую картину можно было бы создать, соединив различные описания, рассеянные в рассказах очевидцев!
За канцелярией между двумя существующими до сих пор решетками заключенные могли разговаривать с пришедшими к ним с воли посетителями; это была приемная. Почти всегда узников навещали женщины: они усаживались на скамьи, стоящие вдоль стен, весело болтали, смеялись и сообщали друг другу новости: лишь очень немногие проливали слезы. Вдруг из глубины канцелярии доносились шаги осужденных на смерть, которые, чтобы подбодрить себя, почти все время пели хором, как безумные. Через узкий просвет иногда можно было разглядеть лежащую на сеннике какую-нибудь страшно бледную женщину с широко раскрытыми, странно неподвижными глазами; ее сторожил жандарм, и она ждала часа своей казни. Жандармы, тюремщики, приставы трибунала беспрестанно сновали мимо, приводя новичков, вызывая на допрос, отдавая приказания, крича и ругаясь.
Немного дальше, в сердце тюрьмы, где угол, отрезанный от женского двора, образует своего рода отдельный дворик, отделенный от первого лишь толстой решеткой, можно было увидеть еще более удивительное зрелище. «Этот двор, — говорит Беньо, — был любимым местом нашей прогулки. Мы спускались туда, как только нас выпускали из наших камер. Женщины выходили в тот же час, но не так рано, как мы — туалет имел над ними необоримую власть. Утром они появлялись в кокетливых свободных костюмах, причем все на них было так хорошо прилажено и производило впечатление такой грации и свежести, что никто бы не сказал, глядя на них, что они провели ночь на сеннике, или, что бывало еще чаще, на вонючей соломе. Вообще воспитанные женщины, попавшие в Консьержери, до конца хранили там священный огонь хорошего тона и изящного вкуса. После того как утром они появлялись в свободных костюмах, они удалялись в свои комнаты и в полдень выходили вновь, нарядно одетые и изящно причесанные. Даже манеры у них были не те, что по утрам; в них появлялось что-то более тонкое и значительное; под вечер они опять надевали более свободные туалеты. Я заметил, что почти все женщины, которые только в состоянии были делать это, неизменно трижды в день меняли свои наряды. Прочие заменяли изысканность нарядов всей чистотою, которая только возможна была в этом месте. На женском дворе было одно сокровище — фонтан, дававший вволю воды, — и я каждое утро смотрел, как несчастные, которые захватили с собой, а, может быть, и имели всего одно платье, толпились вокруг этого фонтана[342], стирали, полоскали и сушили. Первый утренний час посвящали они этим заботам, от которых их не могло оторвать ничто, даже смертный приговор. Ричардсон заметил, что забота о платьях и мания собирать свои вещи в пакеты занимали умы женщин столько же, если не больше, чем самые серьезные материи. Я убежден, что в эту эпоху ни одно гулянье Парижа не представляло зрелища таких нарядных женщин, как двор Консьержери. Он походил на цветник, усеянный изысканными цветами, но окаймленный железной решеткой».
«Невозможно вообразить себе подобную жизнь, — говорил позже другой вырвавшийся из Консьержери человек, — и в самом деле, в этом месте, один вид которого на протяжении целого столетия внушал печаль и ужас, тогда царствовало искреннее, неподдельное веселье, способное вызвать недоумение всех психологов. Чему приписать такую аномалию? Презирали они жизнь или устали страдать? Или правда, что ко всему можно привыкнуть, даже к мысли о самой ужасной смерти? Во всяком случае, это поколение до такой степени не походило на наше, что мы не можем разобраться в чувствах, одушевлявших его».