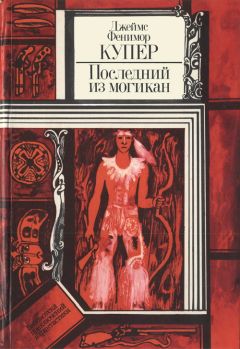Марина Могильнер - Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообразия в истории постсоветского пространства
В результате введения штатов и расчета числа причтов исходя из числа приходских дымов количество действующих (штатных) церквей в Восточной Грузии в течение трех лет было сокращено почти в 2,5 раза — с 759 в 1818 году до 316 в 1821 году. В 2 раза также было уменьшено число причтов — с 643 (если условно брать одного священника из ведомости 1818 года как настоятеля прихода) до 340. Несложно заметить, что при новом устройстве приходов на два села приходилась одна церковь, в то время как ранее практически каждое селение имело по одному, а в некоторых случаях и по два храма. В реальности при установленном духовными властями в Грузии минимуме в 40 дымов на один причт приходилось порядка 62 домов, или около 320–370 прихожан. Любопытно, что при этом в таких высокогорных регионах, как Тушети и Пшави, эта цифра была в три с лишним раза выше. Получается, что в среднем в один тушетинский приход входило более 170 дымов (как минимум тысяча прихожан, что практически равняется величине среднего прихода в Центральной России!). К одной церкви здесь были прикреплены порядка девяти горных сел, значительно отдаленных друг от друга. В Пшави эти цифры были меньше (около 75 дымов, или три селения на причт), но тем не менее они были очень значительными для местности с такими специфически сложными условиями биоландшафта.
В Имерети к началу 20-х годов XIX века российские власти также констатировали чрезмерное число духовенства и церквей. Приблизительно на 15 тыс. дымов здесь до реформы приходилось 618 соборных и приходских церквей, 693 протоиерея и священника, 197 дьяконов, а также 15 монастырей, 11 архимандритов и игуменов, 56 иеромонахов, иеродьяконов и монахов и 12 монахинь[673]. То есть один приход включал в себя порядка 24 дымов, или 130–150 прихожан.
Закономерен вопрос, являлось ли подобное соотношение в конкретных условиях региона оправданным, или же оно стало следствием неестественного роста численности духовенства относительно остального населения? Представляется, что при очевидном в некоторых приходах «перепроизводстве» сельского клира в условиях во многом вертикальной организации местного социума такое положение было вполне объяснимым. Существование церкви в каждом селе, независимо от количества жителей, даже если в нем насчитывалось не более 5–10 дымов, в условиях биоландшафта Грузии (и западной ее части в особенности) давало едва ли не единственную возможность регулярного удовлетворения религиозных потребностей паствы. Местные жители, прежде всего в зимнее время и в высокогорных районах, не могли бы преодолевать значительные по меркам Западной Грузии расстояния, чтобы посетить церковь, не было такой возможности и у священника. Особые трудности возникали бы при исполнении таких церковных таинств, как крещение, соборование, отпевание и т. д. Более того, для крупных сел одна церковь была минимумом, а нормой — две и более. Здесь помимо больших соборных церквей обычно функционировала по меньшей мере одна, а в некоторых случаях и две (в зависимости от числа жителей) кладбищенских церкви, в которых проводились только обряды, связанные с погребением. Безусловно, по своему благосостоянию и уровню образования сельское духовенство в Грузии являлось очень неоднородным: настоятели церквей в мелких селах по 6–9 дымов зачастую жили на пороге нищеты, а некоторые едва знали грамоту. В то же время священнослужители в крупных населенных пунктах, особенно происходившие из среды азнауров (дворян), обычно были гораздо более состоятельными, имели свое хозяйство, а иногда и 1–2 дыма крестьян[674].
Тем не менее с чисто практической точки зрения соотношение, при котором в некоторых приходах на 10–20 дымов приходилось по 1–2 священника, для российских властей выглядело явным излишеством. В ходе реформы конца 1810-х годов принцип, который можно условно назвать «одно село — одна церковь», перестал действовать. В Хонской и Кутаисской епархиях число церквей и священнослужителей было сокращено в среднем в 2–2,5 раза: в Хонийской кафедре вместо 42 церквей и 59 священников осталось 25 и 23 соответственно, а в Кутаисской число действующих храмов с 72 было уменьшено до 37, священнослужителей — со 105 до 39[675].
Таким образом, после приобретения с присоединением Восточной и Западной Грузии около 700 тыс. подданных православного исповедания российские власти в 2 раза сократили здесь число действующих храмов и священнослужителей. Однако, в отличие от центральных губерний России, в Грузии сокращению подлежали и крупные церковные административные единицы — епархии.
Политика Российской империи в отношении грузинского духовенства и в целом церкви в основном соответствовала направлениям модернизации, которой была подвергнута Русская православная церковь в XVIII веке. Как и в Грузии, в российских епархиях власти вели борьбу с перепроизводством клира, полагая, что избыточное его количество только уменьшает экономический потенциал государства. В этом контексте, к примеру, гораздо более понятным выглядит беспокойство главноуправляющего в Грузии Цицианова по поводу бесконтрольного, на его взгляд, рукоположения в священнический сан и пострижения в монахи в Грузии. Грегори Фриз уделил много внимания реконструкции системы мер, которые применяла имперская администрация для реканализации избыточного духовенства в другие социальные сферы[676]. Секулярному абсолютистскому государству была нужна не только собственность церкви, контроль над которой оно установило в 1764 году, но и ее человеческий потенциал. В условиях переформатирования социальных функций церкви от тех, кто не был «извлечен» государством из рядов духовного сословия, требовалась более «эффективная служба» в интересах все того же государства, на службу которому они были поставлены[677].
Описание «церковных имуществ» Грузии, как и сокращение самого духовенства, имперские власти считали необходимой мерой для обеспечения достойного уровня жизни грузинского клира. Тем не менее в самой России секуляризация собственности церкви и введение штатного расписания для священно- и церковнослужителей привели только к еще большему обнищанию причтов, так как назначенный государством бюджет оказался гораздо меньше доходов, которые церковь получала ранее от своего имущества, а штаты стали прокрустовым ложем, не способным вместить гораздо более сложные реалии экономической жизни империи[678].
Петровские реформы церкви кардинально изменили и юридический статус духовенства, выведя его из исключительной юрисдикции церкви и распространив на него действие светских законов[679]. То же самое произошло в Грузии после упразднения имперскими властями института католикоса-патриарха — верховного судьи для всех людей духовного звания, вершившего суд в соответствии с церковными канонами, имевшими такую же юридическую силу, как и светские законодательные акты.
Рассматривая политику имперских властей в отношении грузинского духовенства, как приходского, так и архиереев, уместно обратиться к концепции «конфессионального государства» Роберта Круза. Несмотря на то, что в центре его внимания находятся в первую очередь мусульманская, а также иудейская, буддистская и христианские неправославные конфессии, имеет смысл попытаться хотя бы частично спроецировать эту концепцию на Грузинскую церковь, ставшую частью православной конфессии империи.
Как отмечает Круз, российские законы не позволяли подданному империи объявить себя вне какой-либо из конфессий. В связи с этим «обязательное членство в религиозной общине вводило практически всех жителей империи под надзор официальной иерархии. Поддержание общественной морали, таким образом, являлось обязанностью как официально признанных духовных властей, так и государства»[680]. Думается, что ключевым в данном случае является слово «официально признанный».
Насколько грузинская иерархия начала XIX века была для имперских властей официальной? Разумеется, не в богословско-догматическом, а именно в административно-бюрократическом смысле, поскольку теологические тонкости для секулярной империи не имели значения. Куда более важным являлся вопрос политической лояльности — между ним и вопросом официальности (ортодоксальности) конфессиональное государство ставило знак равенства.
Рискнем предположить, что, несмотря на признание религиозной власти католикоса-патриарха Грузии и символическое оформление этого акта в 1801 году, грузинская иерархия с точки зрения российской системы религиозного управления не являлась официальной. Причина, видимо, заключалась в том, что «природа» этой иерархии и механизмы ее воспроизводства в тот период лежали вне церковно-правового поля империи и сферы ее прямого администрирования. В противном случае даже в объективных условиях необходимости проведения церковных реформ в Грузии не возникло бы надобности столь кардинальным образом обновлять здесь церковную иерархию, создавая фактически заново корпус священнослужителей как на уровне архиерейства, так и на уровне приходского духовенства. В результате в Грузии была сформирована новая церковная иерархия, на которую можно было возложить новые же функции «по поддержанию общественной морали», но уже не столько в христианском духе, сколько в духе секулярного абсолютистского государства[681].