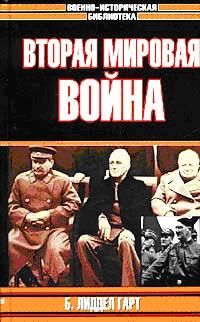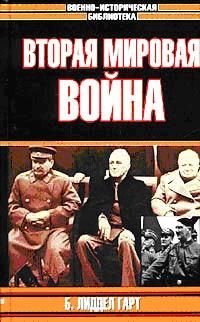Н. Пруцков - Литература конца XIX – начала XX века
В повести «Моя жизнь» неизбежность разрыва между Машей и ее мужем, предчувствуемая обоими супругами, но еще не до конца ими осознанная, выражается в такой парадоксальной форме. Сначала Маша и Мисаил рассматривают модный журнал. Ей нравится платье, и это… вызывает слезы у Мисаила. Затем следует долгое молчание и снова ни с чем не связанная реплика Маши о напрасно выставленных рамах. Никакого объяснения между героями не было, но фактически оно уже состоялось.
Такие формы психологического диалога, когда трагедия, печаль, радость не непосредственно выражены в слове, а проявлены во внешне случайных фразах, не имеющих отношения к сути дела, резких изменениях темы разговора, неожиданных паузах, получат свое законченное выражение в драматургии Чехова. В этом еще одно подтверждение мысли С. Д. Балухатого о том, что драматургия была в творчестве Чехова той «большой формой», которая во многом аналогична роману и которая тесно связана с прозой Чехова.
Однако важное отличие Чехова-драматурга заключается в том, что он начал с широких социально-психологических тем. Юношеская драма без названия и более поздняя пьеса «Иванов» (1887–1889) разрабатывают тип героя времени, именно тип, понятый как олицетворение наиболее существенных черт современного Чехову общества, прежде всего — его культурного слоя. И Платонов и Иванов — это лишние люди новой формации. О Платонове говорят, что он — лучший выразитель духовной неопределенности, характерной для его времени. Эта неопределенность, отсутствие идеалов и целей жизни, беспомощность, бессилие, безволие, фразерство, склонность к дешевому обличению и дешевому саморазоблачению — черты, наиболее ярко воплотившиеся в Платонове, — свойственны, однако, почти всем, и старшему и младшему поколению одинаково. Вместе с тем связи между «отцами и детьми» порваны, между ними нет чувства преемственности и нет взаимного уважения. В этом разрыве не отражается поступательный ход истории, как это было в известном романе Тургенева. В пьесе молодого Чехова рознь поколений исторически бесплодна, это один из симптомов разрушительной болезни, поразившей общество конца века. Эта болезнь выражается в почти всеобщем эгоизме, во взаимной нелюбви, в неуважении к человеку, в неумении и нежелании понять и пожалеть его. Все это свойственно и такому яркому и своеобразному человеку, как генеральша, которая ради удовлетворения своих прихотей и страстей, не задумываясь, причиняет жестокие страдания людям, оказывающимся на ее пути. Даже мелодраматический герой Осип, обрисованный чертами романтического отщепенца, человек, ненавидящий трусость и рабство, даже он не свободен от жестокого презрения ко всем, кто слабее его. При всей безотрадности общей картины автор, однако, не создает впечатления полной безнадежности жизни и неустранимости зла. В финале пьесы, где страсти и беды достигают высшего предела, намечается перелом: люди извлекают уроки из своих и чужих несчастий, начинают постигать трудное искусство любви друг к другу, каются в своих грехах, собираются «хоронить мертвых и починять живых».
Ранняя пьеса Чехова растянута, в ней сказывается техническая неумелость молодого драматурга, и в то же время в ней есть черты подлинного новаторства, в ней видно стремление обновить современную драму. В пьесе воссоздается неспешное течение жизни, и сюжетные ситуации вплетаются в картины будничного быта с подчеркнуто домашними, комнатными разговорами. Здесь Чехов сближался с традицией разговорной пьесы Островского и Тургенева — с той, однако, существенной разницей, что у Островского речь была средством характеристики социальной среды или психологического склада личности, будь то тяжелое слово самодура, или бойкий говорок свахи, или лирическая, песенная речь людей горячего сердца; у Тургенева обыденная речь всегда была на грани тончайших словесных поединков и незаметно переходила в них; у Чехова она была сама по себе, становилась самостоятельной сценической стихией. Речь персонажей часто не имеет в пьесе без названия никакого фабульного значения, а лишь создает ощущение паутины мелочей и всяческих пустяков текущей повседневности, густо обволакивающих события и конфликты пьесы. В ней подробно изображается, например, как люди долго здороваются при встрече, обмениваются приветствиями, шутят, болтают. Один из персонажей вдруг берет скрипку и водит по ней смычком, его просят перестать («Ах, не рипите <обл.>, Николай Иванович! Положите скрипку!»), он вешает скрипку со словами «Хороший инструмент» (11, 16). Никакого отношения к действию этот эпизод не имеет и в дальнейшем нигде не упоминается. Можно предположить, что такие приемы должны придать бытовой характер всей пьесе, но нет: к бытовому потоку неожиданно присоединяется сильный элемент мелодрамы, сосредоточившейся вокруг фигуры благородного разбойника, смело вдвинутой в круг вполне прозаических персонажей. И над всем этим, вбирая в себя разнородный художественный материал, развертывается социологический этюд в лицах, событиях, исповедях, монологах — своеобразный драматизованный критико-публицистический очерк на тему «Что такое платоновщина?».
«Иванов» продолжает тему ранней пьесы. Это драма о недуге целого поколения, о легкой возбудимости и быстрой утомляемости, о разочарованности и безверии, о дурном гамлетизме, прикрывающем безделье и безволие. «Утомился, не верю, в безделье провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги»; «Откуда во мне эта слабость? Что стало с моими нервами?»; «Мое нытье <…> эта моя психопатия, со всеми ее аксессуарами», — так судит Иванов о себе (12, 53, 57–58). Характерно для Чехова — врача и социолога, что симптомы заболевания социального, нравственного и физического у него сближаются. Он мог бы повторить слова Базарова: «Исправьте общество, и болезней не будет». Период возбуждения в жизни русского общества прошел, наступил период утомления, — так в письмах разъяснял Чехов смысл вопросов, поднятых в «Иванове». 60-е и 70-е гг. с их общественным подъемом сменились 80-ми с их безверием и безволием.
Общество подвержено болезням социальным, как человек — физическим; об этом во второй половине XIX в. говорили часто, сближая социальную «терапию» с медицинской. Н. Г. Чернышевский писал, например, в 1857 г.: «Надобно отыскать причины, на которых основывается неприятное нам явление общественного быта, и против них обратить свою ревность. Основное правило медицины: „отстраните причину, тогда пройдет и болезнь“».[298] Законы социальные рассматривались тогда в теснейшей связи с законами биологическими (В. Вунд, У. Карпентер, Н. Д. Ножин). В 80-е гг. интересовались патологическим явлением паралича воли, т. е. таким состоянием, когда человек знает, что ему следует делать, но у него нет воли желать, когда он видит и понимает свой долг, но не может его выполнить. Это рассматривалось как болезнь поколения, загипнотизированного неподвижной, окаменевшей на десятки лет действительностью.[299] Нечто подобное видим мы в «Иванове», примерно такой же диагноз ставит своему герою доктор Чехов, понимающий сложное душевное состояние Иванова, человека честного и доброго, повинного, однако, из-за своего безволия и бессилия в прямой жестокости к окружающим его людям.
Этой сложности положения человека, виноватого без вины, но все-таки несущего моральную ответственность за свою вину, пусть невольную, не может понять доктор Львов, и Чехов объясняет природу его ошибки. Доктор Львов самоуверен и прямолинеен в своих суждениях, что недопустимо для врача, он видит лицемерие и подлость человека там, где следовало бы увидеть недуг времени и поколения. Человека Львов понимает упрощенно, и Иванов прав, когда с горечью говорит ему: «Как просто и несложно… Человек такая простая и немудреная машина… Нет, доктор, в каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трем внешним признакам» (12, 54–55).
Чехов так и судит о людях, как хотелось Иванову, — не только о нем самом, но и о Львове: он видит в нем человека прямого и честного, безусловно убежденного в своей правоте. Львов, как и Иванов, порожден обстоятельствами общественной жизни, появление его рядом с Ивановым естественно и неизбежно, это полюсы современности: где появляются Ивановы, там возникнут и Львовы, рядом с бесчестной слабостью становится бессовестная сила.
Чехов сказал в одном из писем, что оба его героя — «результат наблюдения и изучения жизни» (П. 3, 115–116). Слово «изучение» очень характерно, Чехов именно изучает своих героев, он подходит к ним как исследователь, и задача его не в том, чтобы оправдать одного и осудить другого. В конце 40-х гг. А. И. Герцен писал: «Поэт вовсе не судебный следователь, не королевский прокурор; он не обвиняет, он не обличает, особенно — в драме <…> Надобно питать некоторое доверие к человеческой природе и к нашему уму».[300] Чехов так и поступил, он проявил доверие к зрителям и читателям, они же хотели знать определенно и ясно, на чьей стороне симпатии автора. По законам традиционной театральности, если перед нами герои-антагонисты, один должен был быть поставлен выше другого. Чехов нарушил этот закон, и в этом был один из признаков его новаторства в «Иванове». Сложность и необычность авторской позиции связана была со стремлением художника, занятого «наблюдением и изучением жизни», понять все многообразные «колеса, винты и клапаны», составляющие человека как индивидуальный организм и как существо общественное. Отсюда и тонкость в обрисовке душевных движений, не поддающихся однозначному истолкованию. Так, в последнем действии граф Шабельский внезапно плачет. Лебедев, сказавший ему несколько резких слов, думает, что Шабельский плачет от обиды. Оказывается, однако, что это не так просто: в действие пришли разные «колеса и клапаны», и Шабельский плачет оттого, что вспомнил умершую Анну Петровну и сердечно пожалел ее; и оттого, что пожалел самого себя за одиночество и заброшенность, за то, что жизнь его прошла и у него больше не осталось ни одной надежды; и еще, быть может, оттого, что ему хочется съездить в Париж, поглядеть на могилу своей жены. Причин много, и Шабельский выражает это словами «ничего, так…». Искусство выражать душевное состояние почти без слов или как бы первыми попавшимися словами развернется в последующей драматургии Чехова начиная с «Чайки», в «Иванове» оно только намечается. Здесь преобладают прямые слова и рассуждения: Иванов подробно разъясняет, отчего он надорвался, анализирует себя, спорит с Львовым, спорит с Сашей. «Не свадьба, а парламент», — говорит он в финале драмы, и сама пьеса иной раз превращается в парламент мнений о том, в чем вина и беда Иванова и что представляет собою он сам как частный человек и как общественное явление.