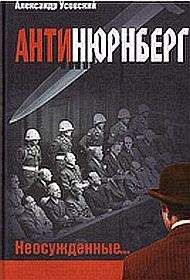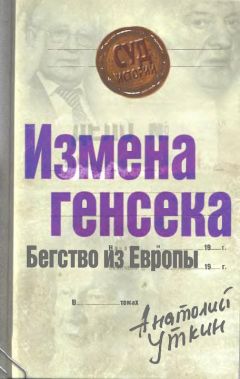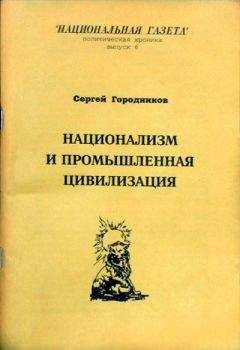Пол Кривачек - Идишская цивилизация: становление и упадок забытой нации
Я <…> должна была жить в позоре, от чего так надеялась защитить себя.
Гирш едва избежал долговой тюрьмы. Хотя Гликль снова начала торговать драгоценными камнями и стала известной в округе «как исключительно искусная в своей торговле», она была уже слишком стара, чтобы начать все сначала, как она уже однажды сделала. У четы не было другого выбора, как обратиться за помощью к детям, а это было оскорбительно для всех принципов Гликль. Разве она не начала свои мемуары с притчи, показывающей, что родители не должны ожидать помощи от потомков?
Десять лет спустя Гирш умер, и Гликль была вынуждена переехать из дома, где она жила, в маленькую комнатку над лестницей в двадцать две ступени, без плиты, и она готовила себе на общей кухне с помощью служанки. Ей пришлось даже страдать от глубокого стыда, принимая помощь общины. Поэтому она, хотя и с неохотой, согласилась на уговоры переехать к дочери в Мец, где она жила в почете и где за ней ухаживали с большой заботой и любовью. Некоторые семейные радости – успехи ее детей и рождение внуков – освещали ее жизнь в последние десять лет. Сама она умерла в 1724 году в почтенном возрасте 78 лет.
Великое разделение
Что меня более всего тронуло, когда я впервые прочитал книгу Гликль, это то, что, хотя она родилась более 350 лет назад, ее слова звучат в точности так же, как слова некоторых моих родственников из предыдущего поколения и даже некоторых нынешних знакомых. Конечно, она непохожа ни на кого лично, но если соединить их черты, получится та же смесь сочувствия и снобизма, стойкого мужества и жалости к себе, терпения и раздражительности, презрения к плебеям-неевреям и раболепного низкопоклонства перед нееврейской знатью. Я всегда полагал, что эти черты являются результатом бурной недавней истории евреев, но мемуары Гликль показывают, что у них гораздо более долговременная основа. Слова Гликль звучат удивительно современно. Ее сочинение явно демонстрирует, что знакомая идишская манера разговора – а большая сила Гликль как писателя состоит в том, что она записывает слова так, словно произносит их вслух, – имеет гораздо более долгую историю, чем я представлял себе раньше. Современные идишские интонации, оказывается, не обусловлены лишь русским или польским влиянием, но вдохновлены также словесной музыкой Библии и молитвенников.
Вся жизнь Гликль была построена на двух столпах – бизнесе и семье, воздвигнутых, в свою очередь, на фундаменте не подлежавшей обсуждению традиционной религиозной веры. В ее собственных глазах, однако, все три компонента являли собой единое целое. «Усердно работай в своем деле, – пишет она, – создание достойной жизни для твоих жены и детей есть мицва – Божья заповедь и обязанность мужчины». Действительно, для Гликль бизнес и жизнь казались неразделимыми. «Первый вопрос, который задают человеку в будущем мире, – говорит она своим детям, цитируя вавилонского раввина IV века Рабба бар Хуна, – “Был ли ты честен в твоих деловых отношениях?”» На самом деле цитата звучит так: «Был ли ты честен во всем твоем поведении?»[185] Я не думаю, что такая нераздельность работы и жизни обусловлена, как полагают некоторые исследователи[186], влиянием новомодного духа капитализма, который социолог Макс Вебер связывает с протестантизмом. Мне кажется, что она следовала тому же импульсу, что и целый ряд говоривших сначала по-немецки, а затем на идише купцов, торговцев, финансистов и деловых людей, которые на протяжении предшествующей половины тысячелетия делали евреев незаменимым скрепляющим раствором для экономики Центральной и Восточной Европы и которым Германия, Богемия, Польша и Литва были обязаны многим, если не сказать почти всем, в развитии своей коммерции.
Но была и иная традиция, от которой Гликль явно и неявно отстраняется. У восточной половины идишского мира были свои особые нормы. За Одером деловой успех хотя и не совсем презирался, но пользовался гораздо меньшим уважением, чем в западной половине. Религиозные училища польско-литовской конфедерации были наполнены студентами, всю свою жизнь изучавшими Талмуд и претендовавшими на то, чтобы содержаться общинами (и на деле ими содержавшимися). Здесь поддерживалась совершенно иная модель идеальной семьи, предполагавшая, что муж проводит весь день в доме учения, а жена трудится и борется с мирскими проблемами, чтобы поддерживать его. Действительно, даже в Германии и Франции ограниченная общественная поддержка учащихся считалась богоугодным делом. Невестка Гликль кормила некоторых студентов-талмудистов и раввинов, другие поддерживались благотворительными взносами ее зятьев. Когда умер отец ее мужа Хаима, было нанято десять раввинов, чтобы молиться и изучать Талмуд в память о старике. Но сам Хаим успешно совмещал коммерцию с набожностью. Как бы он ни спешил по делам в городе, торгуя золотом, вспоминает Гликль, он не пропускал ни одного дня, чтобы не заниматься изучением Торы, а после смерти своего отца он целый год не предпринимал поездок, «чтобы не пропустить ни одного кадиша [молитва за умерших]».
Профессор Эли Барнави в своей статье[187] подчеркивает широкую ментальную брешь между евреями Германии и Польши того времени. Хотя для Гликль Польша была почтенной страной религиозной учености, «с евреями Польши, – сообщает она, – не заключают ни браков, ни деловых контрактов». Восток был страной Талмуда и цорес (огорчений). Когда Гликль пишет: «Мой сын Лёв ссудил несколько тысяч польским евреям, и денег этих, увы, мы никогда больше не видели», – она не добавляет «разумеется», но это слово подразумевается. Когда она ошибочно опасалась, что ее маленькая дочка заразилась чумой, два польских еврея, чьей помощи она ожидала, не пошевелили ни пальцем, «пока не получили тридцать талеров на месте», – и, поскольку была суббота, для уплаты потребовалось получить разрешение раввинов. Двое из зятьев Гликль были разорены казацким восстанием в Польше; больные польские евреи, бежавшие от нападения московитов на Вильно, были приняты отцом Гликль, и за ними ухаживала ее бабушка, которая в результате сама умерла от болезни. Польский раввин, к которому Гликль отправила изучать Талмуд своего самого способного сына, пытался вымогать у нее «пятьдесят или шестьдесят рейхсталеров» при помощи подделанного им письма якобы от ее сына, где играл на самых худших страхах Гликль: «Прошу тебя именем Божиим, поспеши! Потому что в случае промедления я попаду, Боже упаси, в руки поляков, и тогда, может случиться, речь пойдет о выкупе в десять раз большем». Обман открылся, только когда сын случайно появился дома, живой и здоровый, ничего не зная обо всей этой истории. Хотя нигде в своих воспоминаниях она не использует выражения polnische Wirtschaft («польская работа»), без сомнения, оно, как и последующему поколению немецких евреев, ей было известно. Это оскорбительное выражение еще используется современными немцами по отношению к чему-либо дрянному, некомпетентно или плохо сделанному.
Конечно, предрассудки Гликль, как и большинство предрассудков, основаны в большей степени на расхожих стереотипах, чем на фактах. Но если она и ее окружение разделяли немецкое представление о польских евреях как ультраконсервативных, несовременных, живущих средневековыми фантазиями, в отличие от своих прогрессивных западных единоверцев, они игнорировали тот факт, что величайшие достижения еврейской мысли предыдущего столетия пришли не от немецких евреев, но из Кракова и Праги.
Мне представлялось, что великое разделение между западом и востоком, между двумя потоками, один из которых говорил сначала по-немецки, а другой по-славянски, и которые слились, чтобы образовать идишскую нацию, должно было давно нивелироваться к началу XVIII века. Я предполагал, что трения между центрально– и восточноевропейским еврейством, которые я помню с детства, и оскорбления, которыми они обменивались, были новым явлением, обусловленным эмансипацией немецких и австрийских евреев и, как следствие, восточной, ортодоксальной реакцией на просвещенность западноевропейских евреев с их светской направленностью. Я был неправ.
Мемуары Гликль показывают, что раскол уже существовал или еще в достаточной мере сохранялся в XVII веке. Как бы много каждая сторона ни вносила в общую культуру и как бы дружелюбно эти стороны ни общались временами, два потока никогда не сливались. Хотя у них были общие язык, обычаи, религия и древняя история, хотя в эпоху Гликль обе стороны были одинаково богобоязненными, немецкие и славянские традиции никогда не смогли полностью нивелировать разделявшие их барьеры.
Теперь уже было слишком поздно. Через два года после рождения Гликль началась серия мощных исторических потрясений, сотрясавших Восточную Европу на протяжении полутора столетий; они разбили прошлое мироустройство и, переставив местами его осколки, создали новую, сильно упрощенную мозаику. Идишский гейм раскололся на куски. Его германская и славянская части оказались навеки разделенными. А польско-литовская конфедерация, самое сердце идишской цивилизации, была полностью стерта с карты Европы.