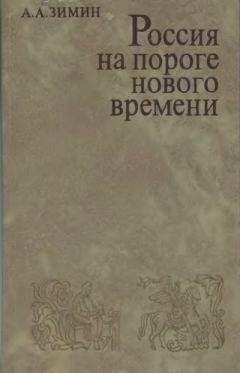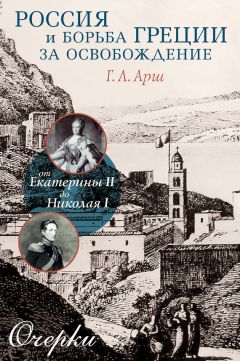Н Кривошеина - Четыре трети нашей жизни
Окончательное внедрение в кухню-квартиру на Советской -- в дом, где когда-то проживал настоятель Ульяновского Храма, прошло не так-то легко: подводные рифы и тут нас чуть не потопили ... Жилица Мария Федоровна и виду не подавала, что собирается в Омск, -- все вздыхала: "Ехать -- не ехать?" А мы с Никитой ютились на кухне в невозможном хаосе... Время шло, а вот и еще одна неожиданная новость: муж Марии Федоровны внезапно скончался в колонии как оказалось, покончил с собой... Тут она легко вздохнула и говорит: "Мне теперь и уезжать нечего, ведь это я его боялась, а теперь..." Мы еще и не "заняли" площади -- площадь, это комната, но она нас туда не пускала. Я опять впадаю в отчаяние; наш шкап все еще стоит во дворе, денег нет совсем -- решаю его продать; приятельница Марии Федоровны, энергичная молодая особа, секретарь Первого Танкового Училища, достает Никите ручную повозку и дядю Мишу -- истопника из Училища; они грузят шкап, и Никита везет его в комиссионку продавать, но шкап у него буквально с руками вырывают еще на улице - и он возвращается, получив за него 600 рублей... Никому в голову не приходит узнать, почему шестнадцатилетний мальчик везет продавать шкап -- а его нигде ведь просто не сыскать и не купить! -- Может быть он его украл? И кому он отдаст 600 рублей?
От этой продажи временно становится легче, мы получше питаемся... Встречаю на улице преподавательницу из Пединститута. Она меня расспрашивает: как же мы живем? На что же, в конце концов? Отвечаю ей: "Вот сейчас едим шкап!"
Боже мой, что же будет дальше? Однако та секретарша из Первого Танкового - Нина Дмитриевна, энергичная, деловая и еще при этом весьма симпатичная, вдруг играет свою коротенькую роль в нашей судьбе... У жилицы в комнате стоит чудесный старинный буфет, и она, решив ехать в Омск, еще в начале лета продала его Нине Дмитриевне.
Как-то жилица ушла на роботу в Первое Танковое, и часов в двенадцать внезапно появляется Нина Дмитриевна с дядей Мишей - дядя Миша сидит на дрогах, запряженных лошадкой; они вдвоем быстро и ловко выносят во двор буфет, и дядя Миша увозит его к Нине Дмитриевне. Я несколько смущена -- как же это так без хозяйки? "Да буфет давно уж мой, - возражает Нина Дмитриевна, -я давно заплатила, вот только дядя Миша был занят... А вы не моргайте, -добавляет она внезапно, -- место в комнате освободилось, и внесите туда свою кровать, да лягте на нее, скажите, что больны... А то совсем без площади останетесь..." Она уходит, и как только с завода появляется Никита, мы с ним дружно тащим кровать в комнату, раскладываем ее, и я стелю простыни, одеяла, кладу подушки. Вношу и чемодан. Вот и я заняла свою площадь, теперь уже со мной трудно будет спорить, да и у меня сын рабочий, мы так и говорим всем: "Кто вы?" -- "Мы семья рабочего". Недели через две Мария Федоровна уезжает в Омск, и эта глава, как будто, окончена.
Еще немного про приемную МГБ - такую, какой она была в те годы, и про Гаврилова. После ареста Игоря Александровича я видела его всего раз в проходной, куда он мне велел прийти за полной описью задержанных вещей. Тогда я и попала впервые в проходную... А потом неоднократно ходила звонить по знаменитому телефону, украшавшему стену направо от входа -- единственный рупор и надежда что-то узнать от вершителей судьбы, находившихся где-то внутри большого каменного двухэтажного здания. Но узнать что-либо было пустой надеждой, единственный и привычный ответ на вечный вопрос было: "По этому поводу, к сожалению, ничего сказать вам не могу".
Впоследствии я Гаврилова больше не встречала, а с разными бумагами -вернее, с ответами на мои прошения, будь то Молотову или "президенту" Швернику -- обычно появлялся Толмазов, хорошенький, подтянутый (тут он был всегда в мундире, тогда как при аресте все трое были в штатском). Толмазов щелкал лихо каблуками и в самой вежливой форме сообщал мне: "К сожалению, по этому вопросу ничего сказать не можем".
Главным начальством в МВД был в то время полковник Садовников -- его я так никогда и не лицезрела, а только слыхала восторженные о нем отзывы Александры Федоровны Романовой; она восхищалась его наружностью, бравой выправкой и... красотой его жены. Последнее могу удостоверить - мадам Садовникова была очень эффектна, и ее мне раз пришлось увидеть в этой проходной; это случилось летом, вскоре после переезда на новую квартиру; я сидела и ждала очередного ответа, позвонив по телефону Гаврилову, сидела на узкой лавочке вдоль стены,, а рядом со мной сидела молодая женщина, полная, с бледным одутловатым лицом, в скромном черном платке -- хотя был жаркий день; через некоторое время она вскочила, подбежала к телефону и, сняв трубку, просила поговорить с полковником Садовниковым. После длительных переговоров ей разрешили с ним поговорить... Она начала быстро и почти бессвязно объяснять, что очень больна, что завтра ложится в больницу на тяжелую операцию и, может быть, исход будет смертельный: "Прошу, прошу вас, полковник, хоть на десять минут мне позволить свидание с отцом, ведь, может быть, я его больше никогда не увижу..." Ее монолог, изредка прерываемый какими-то краткими ответами телефона, длился долго, несколько минут; наконец, в полном отчаянии, она начала громко, без стеснения рыдать, и только повторяла: "Я умоляю вас, умоляю, ведь мой отец больной, сердечник, умоляю...", -- но в трубке щелкнуло и слышно было и мне, и старухе с кульком, что Садовников повесил трубку, чтобы не терять времени... Женщина упала на скамейку и вслух рыдала и причитала, не стесняясь, потом резко вскочила на ноги и, злобно вскрикнув: "Да будь они все прокляты навеки!" убежала из проходной на яркое июльское солнце...
Мы сидели молча, я и старушка. Время шло -- там подчас приходилось очень долго ждать -- это делалось нарочно, чтобы просителей совсем обезнадежить.
И вот в этот момент в этой тяжкой тишине к проходной подкатил огромный автомобиль, молодой и изящный офицер МВД ловко соскочил с места, которое он занимал рядом с шофером, с шиком открыл дверь и поддержал под руку выходившую из машины красавицу. Она действительно была очень красива: высокая, худощавая, в отличнейшем цветастом платье из крепдешина, на голове широкополая соломенная шляпа -- то, что англичане зовут a picture hat -- да, в таком туалете по пыльному нищему Ульяновску тех времен безопаснее было ехать в машине, чем идти пешком. . .
Она подошла к телефону, сняла трубку и сказала одно слово: "Садовникова", -- голос оттуда сразу ответил, и через секунду она опять сказала: "Миша, ты?" -- и далее: "Знаешь, тут мне принесли рыбу, - да, да, свежую... ну, осетрина, да вот большая уж очень... ну, как -- брать?" После паузы: "Ладно, ладно, возьму уж". Треск, трубку на место, и она выпорхнула на улицу, обдав нас резким потоком дорогих приторных духов (не то "Красная Москва", не то "Серебряный Ландыш") .
Еще про Ульяновск
Страшный город был Ульяновск в те годы -- дома не ремонтировались больше тридцати лет, заборы и частоколы месяцами лежали, поваленные на тротуар, -- приходилось обходить их, сойдя на мостовую, а там зачастую лужа по щиколотку... Во многих домах обрушились балконы; некоторые висели на металлической подпорке вдоль дома и покачивались на ветру. Все хозяйство города было в полном расстройстве; по две-три недели целые кварталы оставались без воды - не раз пришлось мне растапливать снег в ведре на кухне -и получалось четверть ведра грязной черной воды, ведь вся округа бьвшего Ильинского Храма была на много сантиметров погребена под угольным шлаком, который день и ночь выплевывала двадцатипятиметровая труба, победоносно громоздившаяся над алтарем, -а ночью горела она тучками искр, вроде фейерверка в день салюта. Вторая труба вделана была внизу, прямо в алтаре, коротенькая, метр-полтора, и открывала она свою громадную пасть прямо на проходной двор -- тупик позади храма, где и был расположен ряд домов, небольших, деревянных -- а мы жили как раз в доме против трубы. Каждые двадцать минут труба эта с грохотом сотрясалась, и из нее вылетала громадная порция горячего шлака. Первое время я ночами не могла заснуть -- все ждала: когда же опять загрохочет?..
В последнем доме нашего тупика жила Екатерина Николаевна Венцер, из старой купеческой симбирской семьи Волковых -- о ней еще будет ниже; в ее дворе стоял небольшой дом, где жила просвирня -- бывшая в прошлые времена горничной у матери Екатерины Николаевны... Характер просвирня имела грозный и держала себя неприступно -- но... каждый месяц ей привозили несколько мешков муки (откуда?) и дров у нее была запасено на целый год... К этой просвирне изредка хаживал в гости "поп-расстрига", я его несколько раз видела в нашем тупике : одет он был, как в Малом Театре в пьесах Островского купцы -- синие брюки заправлены в высокие сапоги, синий армяк с кушаком, на голове картуз тоже матерчатый, синий с козырьком - борода длинная, седая, и походка легкая, быстрая, как у молодого... Идя к просвирне, он останавливался перед бывшим алтарем, перед шлаковой трубой, и долго молился, крестясь, вздыхая и причитая негромко. Молясь, снимал картуз и вдруг становился похож на священника.