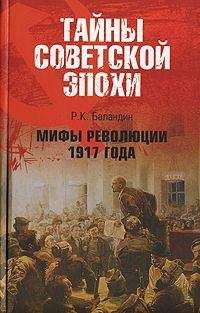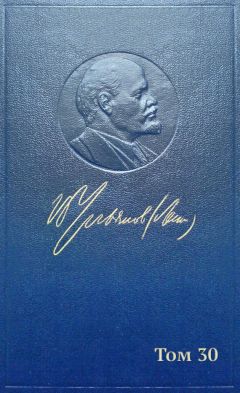Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года - Булдаков Владимир
В общем, все это напоминало «детское» – безответственное и глумливое – веселье, сопровождаемое жестокими выходками. Обыватель чувствовал себя на подмостках героической пьесы. Всем хотелось мысленно оказаться в рядах победителей. Поэт Г. И. Золотухин, в свое время спонсировавший футуристов, увидел в происходящем глубокий патриотический смысл:
…От гордости, что ты русский, улыбаются ростки духа и душа напевает песни молодой России…
Быть ближе голубодали и дальше от всего темного – вот цель близкой России и ее поэтов…
Сегодня, быть может, первая за тысячи лет русская Весна 24.
Лишь много позднее И. Бунин в «Окаянных днях» заметил:
Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!
Строго говоря, Россия не была готова к тому перевороту, о котором давно и страстно мечтала. Отсюда все последующие события.
Сомнительно, чтобы сословно и культурно разобщенная империя могла в одночасье стать граждански сознательной и патриотичной. На протяжении столетий система строилась, в сущности, лишь на одной идее – идее обязательного обожания монарха. Сложилось убеждение, что «не было на Руси слова более „подмоченного“, более опоганенного, чем слово „патриотизм“», поскольку «этим именем прикрывались при царском режиме прихлебатели, лакеи самодержавия». Однако некоторым хотелось верить, что все изменилось.
Перечень тогдашних самообольщений можно продолжать до бесконечности. Казалось, что теперь революция нуждалась не в начальниках, а в поэтах. Они действительно способны были возвысить протестный и даже преступный замысел. Футурист В. В. Каменский взывал:
В поэтических образах того времени красный цвет постоянно сопровождала «позолота». Кровь революции словно застывала в золотых окладах новых иконостасов. В любой революции всегда присутствуют не только футуристические инновации, но и архаичные иллюзии. Однако В. В. Каменский утверждал, что «земля нового мира… никак и никогда не представлялась нам в виде либеральной буржуазной республики, заменившей монархию…».
Александр Блок писал: «Все происшедшее меня радует. Произошло то, чего еще никто оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала». Он был прав. Уловить подлинный смысл событий не удается до сих пор.

КОНЕЦ ОДРЯХЛЕВШЕЙ ДИНАСТИИ
Николай II некоторое время неуверенно противился тому, что было неизбежно. Уговорить его согласиться на формирование требуемого думцами «правительства доверия» пытались и последний премьер Н. Д. Голицын, и начальник штаба Верховного главнокомандующего М. В. Алексеев. Последний, как утверждал представитель МИДа в Ставке Н. А. Базили, даже вставал перед ним на колени. Был составлен текст манифеста. Однако император отправился в Царское Село, рассчитывая быть поближе к заболевшим корью детям. Ситуация казалась символической: в сознании последнего самодержца «детская болезнь» перевесила судьбу империи.
Поезд императора был остановлен в Пскове. 2 марта вечером туда прибыли на украшенном красными флагами поезде А. И. Гучков и В. В. Шульгин. По иронии судьбы просить Николая II об отречении пришлось монархисту, 39-летнему Шульгину, человеку весьма темпераментному. Он вспоминал, что они «ехали как обреченные» с единственной надеждой «спасти Россию». После сбивчивой речи о безнадежности положения нынешней власти Гучков передал императору набросок приличествующего случаю манифеста. Царь не раздумывал. Его уже убедили в безнадежности положения высшие армейские чины. Осталось только «сохранить лицо». Вариант манифеста, привезенного из Петрограда, был отвергнут. По-видимому, он действительно выглядел жалким в сравнении с текстом, загодя составленным в Ставке Н. А. Базили при участии М. В. Алексеева и А. С. Лукомского. Согласно манифесту, Николай II «в условиях внутренних народных волнений» счел за благо передать престол брату Михаилу для того, чтобы «вывести Государство Российское на путь победы». После отречения он сохранял равнодушие человека, убежденного, что его все предали. Некоторым казалось, что он продемонстрировал «мистическую покорность судьбе».
Оригинал документа, заверенного министром Императорского двора графом В. Б. Фредериксом, был отмечен некоторыми странностями. Машинописный текст словно сполз вниз, едва оставив Николаю II и Фредериксу место для подписи. В левом верхнем углу значилось: «Ставка». В нижнем левом углу был указан г. Псков. Вверху посередине напечатано: «Начальнику Штаба». Создавалось впечатление, что сбежавший, но пойманный на полпути Верховный главнокомандующий был вынужден сдать должность своему начальнику штаба. Вероятно, смысл события в том и состоял: армейское командование под давлением неподвластных ему обстоятельств предпочло избавиться от своего бесполезного военного руководителя. Однако сдержать последующее развитие событий уже никто не мог.
В Могилев вернулась и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Вдвоем с «несчастным Ники» они плакали. Это выглядело житейски трогательно. Она считала, что ее сын был «неслыханно спокоен и величественен» в своем «ужасно унизительном положении».
Конечно, это было действительно «горестное свидание», за которым последовал скромный обед в присутствии дюжины приближенных. А 6 марта «прямо на глазах у Ники над Городской думой вывесили два огромных красных флага». Неудивительно, что и в наше время находятся люди, готовые лить бесполезные слезы по поводу того, что было предуготовлено безжалостной историей. Однако историк обязан бесстрастно соизмерять масштабы мировой истории с личными трагедиями.
Николай II не был ни злым, ни добрым человеком, он превращался в человека эмоционально бесцветного. В свое время его психика была травмирована деспотизмом отца настолько, что он уже не различал никаких альтернатив правления, предпочитая тупое следование прежним курсом, положившись скорее на божественное провидение, нежели на исполнителей собственной воли. Впрочем, воля также была подавлена и собственной неспособностью управлять динамично меняющейся империей, и общим недоумением перед глобальными вызовами. Он по сути сбежал от своей императорской миссии в личную жизнь (которая со временем сделала его еще более зависимым – с помощью собственной жены – человеком).
Относительно молодой, прекрасно выглядевший (хотя и «мелковатый») и даже лично обаятельный император внутренне становился «старым», практически недееспособным человеком. Он пассивно реагировал на вынужденные реформы, полагая, что это «временно». В сущности, он превратился в знак угасания не только монархической формы правления, но и самой империи. Друзей у него не было и не могло быть, были лишь немногие внешне преданные министры и околовластные «весельчаки», позволявшие житейски расслабиться.
Неудивительно, что за императора, покинувшего отнюдь не сломленную армию, не вступился почти никто. Генералам он оказался не нужен. Некоторое исключение составили лишь командир конного корпуса генерал-адъютант Г. Хан Нахичеванский и генерал-лейтенант граф Ф. А. Келлер, имевший репутацию «первой шашки России». Первый будет расстрелян большевиками в январе 1919 года в Петропавловской крепости, где находился в качестве заложника; второй будет убит петлюровцами «при попытке к бегству» в декабре 1918 года в Киеве.