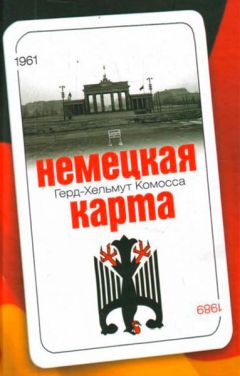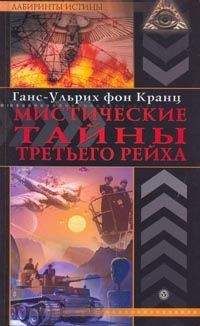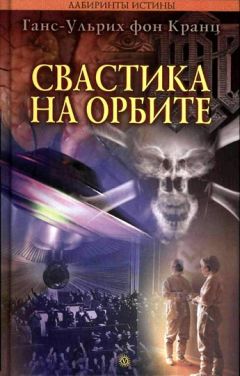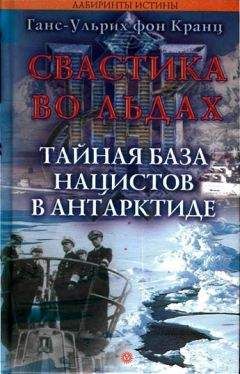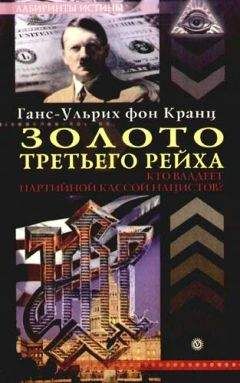Герд- Хельмут Комосса - Немецкая карта: Тайная игра секретных служб: Бывший глава Службы военной контрразведки рассказывает.
В 1983 г., после одного из натовских учений, главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Отис уважительно спросил командующего десантно–диверсионными войсками территориальной обороны «Юг»: «А как далеко ты во время войны прошел в глубь России, Герд?» Услышав мой ответ: «Я дошел до Никополя и Запорожья», — американский генерал устремил взгляд на карту, ища указанные мной города в районе, находившемся километрах в пятистах западней, а именно где–то в районе Кривого Рога и рядом с ним.
Нет–нет, — сказал я. — Надо искать намного, намного дальше в восточном направлении! Это было вот здесь, генерал Гленн Отис, — чуть западней Сталинграда.
Вот черт, — воскликнул американец, — ну да, конечно, вы же дошли до Сталинграда. — Он призадумался. «Да, — вероятно, сказал он сам себе, — если мы хотим воевать так же успешно, нам нужны именно такие солдаты». Но вслух он этого не произнес.
Он одобрительно похлопал меня по плечу, как будто наши военные успехи в период Второй мировой войны были моей личной заслугой. А про себя, видимо, подумал также: «Как же это вам удалось при отсутствии преимущества в военном потенциале?» При этом он, вероятно, размышлял о соотношении пространства, времени и живой силы — тогда, в период с 1941 по 1945 г., и сегодня.
Идар—Оберштайн: служить делу мира, стоять на страже свободы
2 июля 1956 г. я, с чемоданчиком в руке — но теперь не с деревянным, как это было в 1949–м, а с настоящим, кожаным, — двинулся с вокзала Идар—Оберштайн вверх по Клотцберг и, несмотря на то что подъем был довольно крутой, перевел дух только перед самыми воротами. А надо ли в самом деле входить в них? На контрольно–пропускном пункте нес дежурство французский солдат. Он окинул меня критическим взглядом, бегло проверил документы и разрешил пройти на территорию. Во взгляде француза сквозили одновременно и насмешливость, и высокомерие. И я никак не мог отделаться от этого ощущения. Мимо нас прошел куда–то по своим делам американский офицер. Он коротко взглянул в мою сторону, сказал «Ш» и двинулся дальше.
С этого дня я был солдатом бундесвера в составе НАТО в звании обер–лейтенанта и, следовательно, находился в подсудности органов военной юстиции. Мы прекрасно отдавали себе отчет в том, на что мы идем, подавая заявление о добровольном поступлении на военную службу. Мы прекрасно понимали также, что не можем начинать с того, на чем остановились 9 мая 1945 г. Не могли мы, разумеется, вести отсчет и от 2 апреля 1949 г., дня, в который мы были освобождены из советского плена. С той даты прошел временной отрезок продолжительностью в семь лет, который я прожил вне армии,отправляя гражданскую должность в Управлении труда, параллельно подрабатывая в качестве свободного журналиста и занимаясь политикой.
Но я стремился в бундесвер. Меня манил вызов. Тем не менее 2 июля на Клотцберг я все–таки не вполне был уверен в том, что все сложится хорошо. Прежде чем пройти через ворота, я еще раз оглянулся. Городок, лежавший там, внизу, у подножия горы, представлял собой исключительно живописную картину. На противоположном кряже, ниже вершины, в скальном углублении, словно выдолбленном резцом, стояла церковь. Дивное зрелище, которое я с удовольствием перенес бы на полотно. Может, когда–нибудь и напишу эту картину, подумал я, ведь написал же я в 1944 г. панораму Варшавы, увиденную мной с берега Вислы. Куда пропала эта картина? Некоторые из моих картин, которые я написал еще школьником, сумела спасти моя сестра Рут. Я по сей день не могу понять, как ей удалось сделать это в неразберихе бегства в январе 1945 г. Картины, в том числе портрет маслом Фридриха Великого, а также один портрет, написанный с нее самой в нежно–розовом платье, и сегодня висят в ее квартире, охраняемые и оберегаемые ею как совершенно бесценное сокровище.
Один за другим на Клотцберг поднимались все новые и новые мужчины моего возраста со своей немудреной поклажей. Нас коротко приветствовал полковник, а потом распределял по комнатам — по шесть офицеров в одну.
Что было делать в тот вечер, с которого начался новый период жизни? Мы сидели в столовой и пили — сначала пиво, потом ром с колой, а от наступившей великой жажды — снова пиво. Вот чем был заполнен первый солдатский вечер в бундесвере. Потом мы, тридцатилетние солдаты, каждый из которых последние семь лет занимался каким–нибудь сугубо гражданским делом, разошлись по своим комнатам. Было так странно, когда на следующее утро, ровно в шесть часов, нас и в самом деле пронзительным сигнальным свистком разбудил фельдфебель, причем точно так же, как тогда, когда мы были юными рекрутами германского вермахта.
Того, что последовало затем, мы в том виде, в каком это произошло, не ожидали. Нам, естественно, выдали форму, процесс переодевания проходил точно так же, как в старом вермахте. Неизменно звучал один и тот же вердикт — «Годится!», даже если такое заключение никак не вязалось с действительностью. Фельдфебель и в бундесвере имел серьезный авторитет, использовавшийся с большой охотой. Распределение по аудиториям прошло в рутинном режиме. Была поставлена задача за восемь недель освежить основы наших военных знаний, освоить воинские приветствия и строевой шаг, научиться сходиться и расходиться, делать повороты направо и налево, разворачиваться на сто восемьдесят градусов, научиться в каждую минуту вести себя и двигаться по–солдатски.
Сначала мы занимались строевой подготовкой. Ухарство, чрезмерное выпячивание внешних форм, как мы очень скоро заметили, не приветствовались. Существовала установка на устранение чрезмерной прусскости. Отбраковали даже подбитые гвоздями сапоги с коротким голенищем. Солдат бундесвера ходил на мягких резиновых подошвах. Если раньше при стойке смирно мы держали пальцы по швам брюк, то теперь должны были держать их согнутыми в кулак, но не до конца, а только наполовину. Все должно было выглядеть в максимальной степени «гражданским». Занятия в аудитории чередовались практическими занятиями. Сначала в ящике с песком, а потом все чаще на гарнизонном полигоне — в полевых, приближенных к боевым условиях. Эти занятия вел инструктор, пришедший в бундесвер из федеральной пограничной охраны. Все в нем напоминало мне вермахт. В том числе форма. И манера держать себя была, разумеется, сугубо солдатской. В ней не чувствовалось никакого влияния американцев.
Увидев, насколько не впечатляющими являются наши артиллерийские познания, наш инструктор по артиллерийскому делу, подполковник, пришел в полное отчаяние. «Боже ты мой! — воскликнул он однажды. — Чем же вы, собственно, занимались все эти годы?» По его словам, он не мог себе и представить, чтобы артиллерийский офицер после войны перестал заниматься измерением, логарифмами и другими теоретическими вопросами артиллерийской науки. Во всяком случае, сам он изо дня в день продолжал это делать с 1945 г. «Изо дня в день, господа, изо дня в день!» Он не очень-то скрывал, в сколь малой мере мы отвечали его представлениям об артиллерийском офицере. Сам он, видимо, с 1945 г. действительно ни на мгновение не терял надежды когда- нибудь снова стать солдатом. Эта мечта была естественной нормой его жизни.
Так почему же, в самом деле, 2 июля 1956 г. я снова стал солдатом? Позднее я жестко и неоднократно задавал себе этот вопрос, однако ответ на него не прост. Тогда все мы — и я, и мои товарищи — в профессиональном отношении твердо стояли на ногах, я был женат, у меня было двое очаровательных детей.
Перед набором на офицерскую вакансию каждого соискателя экзаменовали на профпригодность. Принципиальный вопрос, ставившийся каждому кандидату, гласил: «Каково ваше отношение к участникам акции 20 июля 1944 г.?» Мнения на этот счет в моем поколении были еще очень разными — от измены родине до осознания необходимости действий после Сталинграда и прежде всего после сражения под Курском в июле 1943 г. Кто не считал, что действия фрондеров 20 июля 1944 г. заслуживают безусловного одобрения или по меньшей мере уважения или признания, тому поступление в бундесвер было заказано. Кто впоследствии, как это порой случалось, подвергал критике военных, оказавших сопротивление Гитлеру, не был искренним. Основополагающим для принятия решения стать солдатом было, вероятно, обострение международной обстановки в связи с блокадой Берлина Советами.
Сталинград был потрясением для моего поколения. Нельзя было допустить повторения подобной драмы. Для этого нужно было предпринять все необходимые меры. Разумеется,не могу этого не признать, мне нравилось ходить в строю, петь при этом солдатские песни, командовать — но разве это было определяющей мотивацией? Мы видели, что свободному миру и нашему народу угрожает новая опасность. Мы видели русских и воспринимали их коммунизм как подавление личности. Думаю, что определяющим было желание предотвратить новую войну, а в случае необходимости защитить нашу страну. Но в сущности, все поступки были обусловлены ярко выраженным чувством национального самосознания. Кто отрицает это, тот лжет. Кроме того, нам не хотелось, если уж дело действительно дойдет до войны, снова оказаться проигравшими. На сей раз мы хотели быть вместе с победителем, а именно на стороне США. Советский Союз не был для нас приемлемой моделью существования.