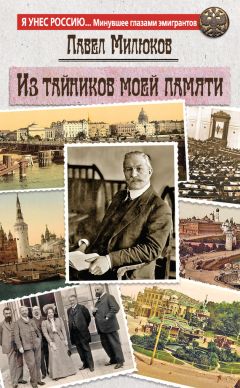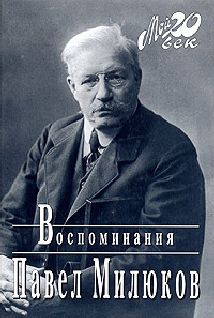Франсуа Блюш - Ришелье
Существует святость, признанная церковью — через беатификацию, а потом канонизацию. Есть также святость неканоническая, кроме того, существует святость тайная. Все эти три формы процветали во Франции между 1610 и 1660 годами, в самую созидательную эпоху. Эти пятьдесят лет оказали влияние на историю уже тем, что направили ее в определенное русло. Ришелье не управлял неизвестно чем неизвестно как; его управление страной осталось в памяти как особый период, сегодня представляющийся прекрасным или ужасным. Несомненно, ему было удобно окружить себя святыми. Эти люди не занимались политикой (за исключением Берюля, преуспевшего в этом лишь наполовину), но само их присутствие, их прямое или косвенное влияние являлось необходимым — особенно когда всемогущий министр «христианнейшего» короля сам являлся священником и князем Римско-католической церкви.
За два года до возвращения Ришелье в королевский совет или, если угодно, за шесть месяцев до того, как папа сделал его кардиналом, Григорий XV «приступил к одному из самых невероятных процессов канонизации святых, когда-либо происходивших на протяжении веков» (Р. Даррико). Никто из канонизируемых не был французом, но все они предлагались в качестве образца для Франции, где Контрреформация задержалась из-за религиозных войн. Они проявили себя если не на Тридентском соборе, то по крайней мере в своих делах. Это были Игнатий Лойола (1491–1556), «апостол нового времени», основатель ордена иезуитов; его товарищ Франсуа Ксавье (1506–1552), отважный миссионер; Тереза Авильская (1515–1582), реформатор и мистик; Филипп Нери (1515–1595), воспевший религиозное рвение. Три испанца, один итальянец. Не подумайте, что Григорий XV позабыл о Карло Борромео, благочестивом архиепископе Миланском. Его предшественник Павел V уже канонизировал его в 1610 году, словно Рим хотел обессмертить Тридентский собор, на котором блистательный Борромео был подобен неутомимому апостолу.
Подхватив это начинание, Франция стала плодить и создавать множество святых и блаженных. За Борромео последовали прелаты — например, Ален де Солминьяк (1593–1659), епископ Кагора. За Франсуа Ксавье миссионеры — Жан-Франсуа Режис и канадские мученики. За святой Терезой монахини — Жанна де Лестоньяк (1556–1640), племянница Монтеня и основательница ордена сестер Непорочной Девы Марии. Кроме того — если попробовать установить иерархию заслуг святых, — не следует забывать святую Жанну де Шанталь, бабку мадам де Севинье и основательницу ордена Визитации, Винцента де Поля и его ревностную помощницу Луизу де Марильяк, а также Жана Эда.
Параллельно тому, что можно было бы назвать официальной святостью, существует список потенциальных святых. Самыми известными среди них были кардинал де Берюль, основатель Французской оратории; Олье, кюре Сен-Сюльписа и основатель семинарии; отец Кондрен, преемник Берюля в генералитете Оратории; аббат Сен-Сиран, которого Ришелье в 1638 году заключит в Венсеннский замок. Между святыми канонизированными и незаслуженно забытыми нет какого-то явного отличия. Почему Римская церковь отказалась канонизировать Ольера, чья семинария выпустила сотни достойных священников и епископов, набожных и прилежных? Почему незаслуженно забыли Кондрена, назидательного мистика? Почему был забыт Пьер де Берюль, которому «приписывали сорок пять чудес, совершенных с помощью его заступничества»?
В эпоху Людовика XIII существовала и третья категория «святых», неканонизированных, небеатифицированных и не слишком известных. Жозеф Гранде, автор произведения, озаглавленного «Святые отцы Франции XVII века» (1897–1898), упоминает семьдесят «канонизированных» им святых. Половина из них принадлежат к епархиальному духовенству; вторая половина — к новым орденам: ораторианцам, лазаристам, сульпицианцам, выпускникам семинарии Сен-Николя-дю-Шардонне. А ведь Гранде в трех томах биографии занимается только священниками. Следовало бы пополнить его списки, добавив к ним епископов, монахов, монахинь и мирян.
Среди прелатов выделяются Бартельми Донадьё де Гриль, епископ Комменжа с 1626 года, и Жан-Батист Голь, епископ Марселя с 1642 года (я бы еще добавил кардинала Лионского Альфонса дю Плесси де Ришелье, старшего брата нашего героя). Среди монахов — Оноре Парижский (1566–1624), капуцин; дом Мишель Ружье, бенедиктинец, приор Ля Реоля с 1636 года; брат Фиакр Сен-Маргеритский (1609–1684), босоногий августинец из Парижа, предсказавший рождение Людовика XIV и его брата Филиппа Орлеанского. Среди монахинь, названных Бремоном «прекрасными аббатисами, которые меньше чем за тридцать лет восстановили в королевстве изрядно подорванный престиж ордена Святого Бенедикта» — Мари де Бовилье, аббатиса Монмартрская, Мадлен де Сурди, Луиза де л’Опиталь, Анна-Батильда де Арлей, Клод де Шуазе-Праслен, Лоране де Бидо, Мари и Рене Лотарингские, Франсуаза Шартрская (аббатиса Фаремутье), Маргарита Анженская…
Хватало и благочестивых мирян — «святость воссияла среди христианского народа» (Р. Даррико). Но в ту эпоху церковь не обращала на эту святость внимания. Был ли так же слеп и Ришелье? Нам это неизвестно. Мы знаем только, что он предчувствовал и даже ощущал атмосферу святости (например, ораторианцы, надеясь стать святыми, не сильно заботились о мнении канонического совета и в конце концов забыли дело отца Кондрена, генерала ордена).
Во всяком случае, мы знаем, что Его Высокопреосвященство имел достаточно полное и ясное представление об истоках подобной душеспасительной атмосферы: Тридентском соборе и Контрреформации.
ПЬЕР ДЕ БЕРЮЛЬ
Этого кардинала принимали за блаженного[21].
Таллеман де РеоОдин из самых святых людей, которых я знал.
Винцент де ПольСуществует один Бог, и все в Его присутствии является чистым небытием.
Пьер де БерюльПьер, кардинал де Берюль (1575–1629), создатель и эталон «эпохи святых», никогда не был канонизирован. И отнюдь не Ришелье — который был младше его на десять лет и являлся его неблагодарным должником, всемогущим соперником и победителем — провел из любви к нему (даже если втайне им восхищался) процедуру беатификации. Их карьеры какое-то время развивались параллельно, но позже пересеклись: на первый взгляд из-за политики, в реальности — по причине их противоположных моральных и религиозных взглядов. Ришелье никогда не признавал Берюля, но тот всегда оставался для него живым упреком.
Не лишенный дипломатии[22], Пьер де Берюль ненавидел прагматизм, присущий публичному человеку. Будучи министром, он никогда не руководствовался так называемыми государственными соображениями. В богословии Арман Жан дю Плесси в сравнении с Пьером де Берюлем был сущим ребенком. В плане политическом тот же Берюль был младенцем по сравнению с министром-кардиналом.
Снисходительный Берюль поддержал позицию епископа Люсонского перед королевой-матерью, способствуя ее примирению с сыном. В 1624 году он играл одну из главных ролей (особенно при получении папского позволения) в устройстве бракосочетания Генриетты Французской — дочери Генриха IV — с будущим Карлом I Стюартом Английским (Берюль мечтал вернуть Англию в лоно католической церкви). Он способствовал франко-испанскому сближению в 1627 году и поддерживал Ришелье в его схватке с Ла-Рошелью. Берюль дал множество превосходных советов при выборе новых епископов.
Зато он никогда не разделял взглядов Ришелье по поводу Вальтеллины. Он до конца оставался предан Марии Медичи. Он все больше одобрял Мишеля де Марильяка и его поклонников, осуждая даже косвенный захват позиций, имевших целью повергнуть католическую Испанию. Он считал, что Франции следовало бы встать «во главе католической политики, Gesta dei per Francos[23]. Великая цель — воссоздать христианский мир; средствами к чему является союз с Испанией и обращение Англии» (Жан Данжен). Кардинал де Берюль, возможно, не являлся главой «партии святош»[24], но он был ее крестным отцом, ее покровителем, вдохновителем, ее живым символом. Одному Богу известно, какая жестокая судьба — изгнание? слежка? требование отставки от приората? — ожидала бы его на следующий день после «Дня одураченных» (11 ноября 1630 г.). Однако, попав в опалу 16 сентября 1629 года, 2 октября Берюль благоразумно скончался…
Мы называем этого замечательного человека «создателем эпохи святых», и это не случайные слова. В духе Тридентского собора и по примеру Карло Борромео Берюль, похоже, воплотил в самом себе самое убедительное из того, что предложила Контрреформация: «тесно сочетая набожность с догмой, какой на самом деле оказалась личная благодать Берюля» (Бремон). С помощью своей кузины госпожи Акари он основал в Париже первый французский орден терезианских кармелитов (1604); уже в 1629 году во Франции насчитывалось 43 кармелитских монастыря. В том, что Берюль интересовался орденом кармелитов, не было ничего удивительного: как и Тереза Авильская, он был одновременно созерцателем и деятельным человеком. Не случайно последователем Берюля являлся Винцент де Поль[25]. Любовь к ближнему в нем органично соединилась с мистицизмом.