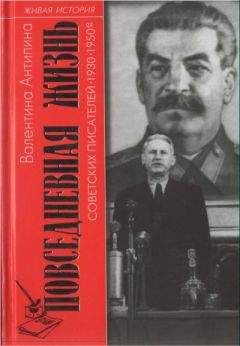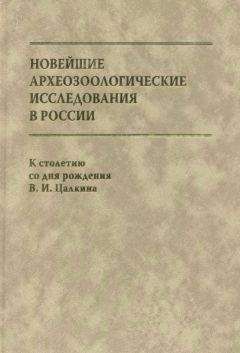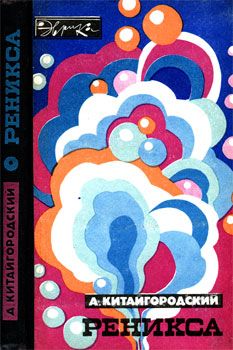Лора Олсон - Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины
В исследовании мы уделяем значительное внимание темпоральным характеристикам биографических нарративов. По концепции Альфреда Шютца, существуют две временные позиции, с точки зрения которых люди говорят о себе: позиция, ориентированная на будущее, на проект, которую он назвал «для-того-чтобы мотив», и позиция, ориентированная на прошлое, интерпретирующая то, что уже произошло («потому-что мотив»). «Когда действие окончено, его исходное (заданное на этапе проекта) значение будет изменено в зависимости от того, что в действительности было выполнено, и тогда оно становится доступным для ряда рефлексий, которые могут придать ему значение в прошлом» [Schütz 1962: 69 – 70]. В работе мы используем понятия сюжета и сценария: сценарии представляют собой типовые, обеспеченные культурой проекты действий, а культурные сюжеты – типовые программы понимания и интерпретации. Культурные сюжеты и жизненные сценарии существуют для того, чтобы помогать людям конструировать и описывать прошлое, интерпретировать настоящее и знать, как вести себя в будущем [Адоньева 2001: 101, 112].
Сюжет представляет собой принятый в данной культуре способ толкования и репрезентации прошлого. Стремясь обеспечить смыслом настоящее, индивиды выбирают сюжеты из набора, заданного культурой – в народных песнях, сказках, литературе, кинематографе, – дабы преобразовать свой пережитый опыт в общее знание, нарратив или автобиографию. Сценарий, напротив, представляет собой инструмент для созидания предсказуемого будущего. Выбор сценария определяет выбор поведения. В этом смысле один и тот же знак (значимое событие или образ) может запускать разные сценарии поведения наблюдателя. Возьмем пример из повседневной жизни: культурный императив, который мы наблюдаем и в России, и в США, может быть высказан приблизительно таким образом: «Как женщина, я прежде всего мать». Сюжет, обеспеченный этим императивом, может быть, например, таким: «Я ушла от мужа-алкоголика, чтобы мой ребенок вырос в нормальных условиях». Логика, мотивирующая поступок, заключается в том, что женщине следует поступать прежде всего в интересах ребенка. И дело тут не в истине, но в убеждении и установке; женщина строит понимание своих действий и свою жизнь на основе этого императива. Примером сценария, произрастающего на этом убеждении, может быть следующее: «Я должна найти себе мужа, который мог бы стать достойным отцом для моих детей». В любом случае не имеет значения, присутствует ли в этой установке реальное основание, но ее принятие – это способ понимания и форма действия.
Разумеется, каждый индивид формирует собственные отношения с подобными предписаниями. Заданные сюжеты и сценарии обеспечены культурой, но человек избирает и интерпретирует их, исходя из собственной мотивации. К тому же общие сюжеты и сценарии и даже культурные императивы со временем меняются, что мы и постараемся показать.
Приведем другой пример того, как биографическое повествование связывается со сценарием. Он взят из интервью с пожилой русской крестьянкой: «У кого большуха умрет, так ложки, говорят, брякают в посуднике…». Рассказчица интерпретирует необъяснимое бряканье ложек как знак, предсказывающий смерть хозяйки дома, то есть как сценарий: когда я слышу звон ложек, я знаю, что моя смерть близка. Но она добавляет: «…этого не случалося у меня. Вот. А вот слыхала». Она нам сообщает о том, что она еще поживет, раз ее ложки еще не звенели.
Когда мы используем чужой или общий (фольклорный) сюжет и создаем собственное высказывание, мы тем самым создаем свое «я». Здесь присутствует напряжение между свободой и предопределенностью: каждый сценарий требует интерпретации – что бы ты ни видел, оно должно уложиться в имеющийся сценарий. И тем не менее, трансгрессия в отношении заданных норм и моделей поведения всегда возможна, поскольку фактически это – один из сценариев. Выбор сценария предопределяет и логику событий, и интригу повествования. Истории, которые рассказывают нам наши собеседницы, передают и смысл, и способ интерпретации: они учат нас, как различать знаки и находить их значения, как видеть сценарии в событиях. Например, в истории, приведенной выше, рассказчица использует сценарий, по которому крик кукушки действует как знак, предсказывающий смерть. Она также использует культурный сюжет, по которому трагические события жизни случаются не просто так; скорее, они есть проявления активности иного мира, а кукушка (которая каким-то образом соприкасается с иным миром), выступая в функции посредника между мирами, провозглашает смерть.
Такие соответствия предполагают существование принципов, лежащих в основе мира. Истории о личном опыте – видимая часть айсберга; бо́льшая его часть скрыта, но именно она подтверждается (и воссоздается) нарративом. О невидимой части айсберга обычно не говорят – кроме, конечно, таких случаев, когда вопрос фольклориста «Оттого что она кукует просто?» вынуждает рассказчика ее обнаружить.
Гендер как коммуникативная стратегия
Рассмотрение сюжетов и сценариев представляет собой один из путей, который мы используем для изучения гендера. Мы пытаемся установить культурные императивы, а также общие сюжеты и сценарии, которые женщины используют в своих нарративах и повседневных практиках. Персональные истории позволяют увидеть ценности сообщества и те пути, посредством которых индивиды себя с ними соотносят. Однако не гендер составляет предмет нашего описания – мы описываем людей и их практики. Гендер мы стали изучать благодаря личным отношениям, которые сложились у нас с сельскими женщинами. В каком-то смысле мы изучаем женщин, потому что мы сами женщины. Многие темы, выбиравшиеся для обсуждения, предполагали приватность и требовали интимного персонального разговора (см. главу 8). А некоторые беседы в принципе не могли бы произойти, если бы не все их участники были женщинами. Таким образом, мы основываем наше исследование гендера как на личных историях, так и на «безличной» фольклорной речи, а также на невербальном поведении наших собеседниц (включая интонацию, жесты, одежду и пр.), которое наблюдали во время наших полевых исследований. Мы не настаиваем на универсальности – например, мы не обсуждаем опыт всех русских женщин, не утверждаем, что описываемые практики никогда не осуществляются мужчинами. Если та или иная практика свойственна и женщинам, и мужчинам (например, мифологические рассказы или магия), мы стараемся в общих чертах указать те различия, которые наблюдаем между мужским и женским стилями, стратегиями и целями действий. Но это могут быть лишь общие наброски, поскольку ни гендерные, ни иные культурные различия не являются абсолютными.
Оставляя в стороне гендерные различия, мы своим исследованием подтверждаем, что гендер является одной из главных структурирующих черт современной русской деревенской культуры. Обусловленные гендером социальные роли влияют на занятия и социальную идентичность человека, гендерные характеристики определяют всю организацию жизненного мира деревни [Щепанская, Шангина 2005: 14]. Как считает Дороти Эткинсон, такое положение дел уходит корнями в историю России: в Киевский период российская аграрная экономика функционировала на уровне прожиточного минимума – таким образом, физическая сила имела первостепенное значение и доминирование мужчин строилось на этом фундаменте [Atkinson 1977: 12]. Со временем патриархат укрепляется в русском деревенском социуме; как пишет Кристина Воробец, в конце XIX века «нехватка земли, ненадежность примитивного сельского хозяйства и обремененность крестьян обязательствами перед семьей, общиной и государством усиливают жесткость и давление властных отношений внутри деревни», включая и те, которые основывались на гендере [Worobec 1991: 13]. Многие русские этнографы XIX и начала XX века рассматривали гендерные отношения русского крестьянства как форму деспотизма. Мы занимаем нейтральную позицию по вопросу о том, были ли гендерные отношения подавляющими для женщин и остаются ли они такими. Женщины, которых мы интервьюировали, – преимущественно те, которые жили при советской власти, – редко считают себя угнетенными гендерным неравенством. Многие (особенно те, кто родились в 1930 – 1950 годах), похоже, получают удовольствие, сетуя на мужчин, на мужское пьянство и неспособность заботиться о себе самих. Для этих женщин гендерное неравенство если и существует, то состоит в том, что женщины гораздо лучше справляются и с работой, и с руководством – как дома, так и вне дома. Женщины действительно рассказывали истории о том, как они оказывались жертвами мужчин, но в историях подчеркивалось то, как они с этим справлялись. Конкретный мужчина может совершать плохие поступки, даже ужасные, но жертвы-женщины часто считают себя защищенными выбранными ими духовными практиками, а также сетью социальных отношений, в которые они включены. Причем, как мы постараемся показать, женщины владеют этими практиками и сетями именно потому, что они женщины.