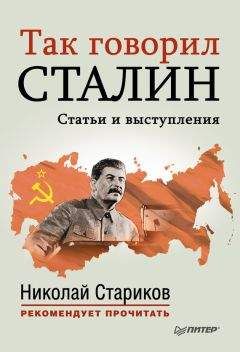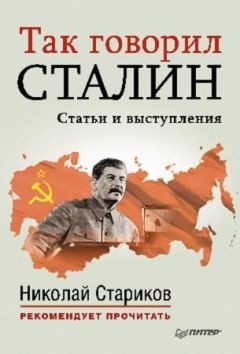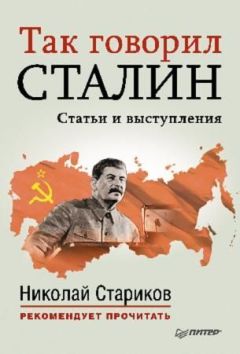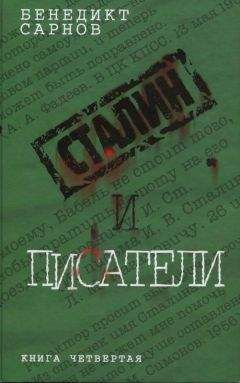Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга первая
Второй отрывок — из письма Иосифа Бродского, которое высылаемый из страны опальный поэт написал генеральному секретарю ЦК КПСС перед самым отъездом:
Уважаемый Леонид Ильич,
покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит к славе русской культуры, ничему другому…
Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого он живет, а не клятвы с трибуны.
Мне горько уезжать из России. Здесь я родился, вырос, жил и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас.
Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге… Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять.
Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось…
С уважением
Ваш И.А. Бродский.
(Бродский. Книга интервью. М., 2005, стр. 452—453.)При всем — кричащем! — несходстве этих двух писем, несходстве и целей, которые перед собой ставил каждый из их авторов, и способов их выражения, — есть между ними нечто общее.
И Солженицын, и Бродский обращаются к своему адресату из некоего другого языкового поля. И — мало того! — оба они пытаются вырвать того (тех), к кому обращаются, из той — привычной для них — системы мышления, в которой они существуют.
Солженицын тщится напомнить «вождям Советского Союза» (членам Политбюро), что они — русские. (Или — украинцы, что для него одно и то же.)
Не могу не вспомнить в связи с этим такую забавную историю.
В Еврейском центре (есть теперь такой в Москве) шла презентация альманаха «Цомет» (по-русски — «Перекресток»). В альманахе этом были собраны сочинения писателей, живущих в России и — уехавших (давно или совсем недавно) в Израиль.
Произведения российских литераторов занимали первую половину альманаха, израильских — вторую. И эту вторую надо был читать наоборот, с конца альманаха — к началу.
В связи с этим кто-то из устроителей всего этого мероприятия рассказал.
В один из самых критических моментов существования государства Израиль (кажется, это было во время войны Судного Дня) в Иерусалим приехал Генри Киссинджер, тогдашний Государственный секретарь США. Израильтяне, естественно, возлагали на него большие надежды — не только как на Государственного секретаря, но и как на еврея: будучи их соплеменником, он должен был, по их мнению, прилагать особые старания к тому, чтобы Соединенные Штаты оказывали Израилю в этом конфликте режим наибольшего благоприятствования. Киссинджер этим давлением, само собой, был недоволен. И выступая в Кнессете (израильском парламенте), весьма недвусмысленно это недовольство выразил.
— Во-первых, — сказал он, — я американец. Во-вторых — Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. И только в последнюю, третью очередь я — еврей.
— Это верно, — откликнулась Голда Меир. — Но ты забыл, что мы читаем справа налево.
Солженицын, обращаясь к «вождям Советского Союза», в сущности, хотел им сказать то же самое: кем бы ни мнили вы себя, на самом деле вы, во-первых, русские, а уж там во-вторых, в-третьих, в-пятнадцатых — министры, члены или секретари ЦК, члены Политбюро — или кто там еще.
Бродский напоминает Брежневу, что язык, на котором и от имени которого он к нему обращается, — «вещь более древняя и более неизбежная, чем государство».
Но — мало того! — в своей попытке вырвать генерального секретаря из привычной для того системы мышления он идет еще дальше, гораздо дальше: пытается напомнить ему, что их объединяет и еще нечто, стократ более существенное и более неизбежное, чем государство: «Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти».
И Солженицын, и Бродский в своих обращениях к «вождям» взывают к ним извне, из другого языкового, стилистического и смыслового поля. Горький, в отличие от них, находится внутри сталинского языкового и смыслового поля, сталинской системы мышления. И самое печальное тут то, что происходит это совсем не потому, что он в этих своих письмах и записках подделывается под Сталина, подыгрывает ему.
Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в вечности, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности.
(Л.Н. Толстой.)…правитель, дающий свое имя моменту истории, должен быть полностью поглощен этим моментом. Он должен нырнуть в волны этого момента и стать неотличимым от него сильнее, чем какой-либо другой человек. Ибо обозначение эпохи является делом именно правителя, и он появляется на марках или монетах своей страны. Правление, поскольку оно персонифицирует эпоху, всегда противоположно деяниям Вечности.
(О. Розеншток-Хюсси. Великие революции:
Автобиография западного человека. (USA).
Hermitage PaUishers, 1999, стр. 184.)В свете этих двух высказываний становится особенно ясно, что я имел в виду, сказав, что Солженицын и Бродский говорят с вождями на разных языках, а Горький со Сталиным — на одном.
Солженицын в своем обращении к вождям, как и Горький, тоже как будто всецело озабочен проблемами «текущего момента». Но взывает он к ним, обсуждая этот «текущий момент», — из вечности:
Невозможно вести такую страну, исходя из злободневных нужд… Вести такую страну — нужно иметь национальную линию и постоянно ощущать за своими плечами все 1100 лет ее истории, а не только 55 лет, 5% ее.
Вечность Солженицына короче вечности Бродского, — этой его вечности отмерен точный срок (1100 лет). У вечности Бродского нет сроков:
Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению.
Эта грустная реплика почти дословно повторяет то, о чем говорит Державин в своей предсмертной, «грифельной оде»:
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
Да, «вечности» у них разные. Но оба они — и Бродский, и Солженицын — говорят с вождями из вечности. Каждый — из своей.
Горький же, даже споря со Сталиным, не соглашаясь с ним, стараясь в чем-то его убедить или переубедить, остается в том же языковом поле, внутри той же — общей со Сталиным — системы отношения к миру, к тем жизненным целям и задачам, которые они оба перед собою ставят.
Сказанное относится не только к самим письмам, но и к тем драматическим, а порой и трагическим сюжетам, которые стоят за этими письмами.
Сюжет первый
«ПЬЕСУ О «ВРЕДИТЕЛЕ» БРОСИЛ…»
Эта фраза — из письма Горького Сталину, написанного 2 ноября 1930 года. Сюжет, о котором пойдет речь, в это время уже достиг кульминации. А завязкой его были события двухгодичной давности.
В мае 1928 года состоялось первое — еще не окончательное — возвращение Горького из эмиграции в Советский Союз. Оно совпало с его юбилеем (ему тогда стукнуло шестьдесят), из которого Сталин извлек всю политическую прибыль, какую только можно было из него извлечь.
Еще в ноябре 1927 года была создана правительственная комиссия по юбилейному чествованию Горького (такие же комиссии были созданы в десятках городов), превращенная затем в комитет по его встрече. В него вошли два члена политбюро — Бухарин и Томский, два наркома — Луначарский и Семашко…
27 мая 1928 года на советской границе дорогого гостя ожидали отправленная ему навстречу делегация писателей и всевозможные официальные лица. Для него был выслан персональный салон-вагон. В Минске, Смоленске и других городах по дороге, несмотря на то, что поезд прибывал туда глубокой ночью, Горького ожидали тысячные толпы людей. В Москве ему была устроена торжественная встреча. На вокзал приехали глава правительства Рыков, члены политбюро Бухарин, Ворошилов, Орджоникидзе, нарком Луначарский, члены ЦК, делегация Художественного театра во главе со Станиславским, огромная группа писателей. Десятки тысяч людей собрались на привокзальной площади, где состоялся митинг. Выстроившись вдоль тротуаров, празднично одетые москвичи приветствовали кортеж машин, направлявшийся к Машкову переулку, где жила Екатерина Пешкова: ее квартира, по прежней традиции, стала временной резиденцией Горького.